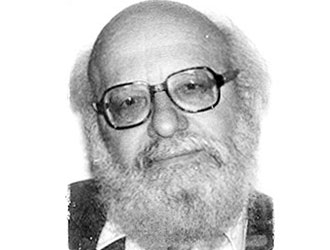Его жизнь была похожа на приключенский роман. Родившись в российской провинции, попав в плен к немцам во время войны, ему удалось остаться на Западе. Учился в Кильском университете, преподавал в Оксфорде, работал на BBC. Активно сотрудничал с антисоветским НТС. О своей жизни, знакомстве с А.Керенским и радикальных студенческих кружках в тридцатые годы он рассказал в интервью.
– Я родился в 21-м году в Теньках, в учительской семье. Папа был заведующим школой и кооператором, устроил в Теньках крестьянский кооператив. У них была своя ссудосберегательная касса. Теньки тогда были очень богатым селом, почти у всех были большие сады. Технику выписывали из Германии. Кооператив имел даже свой пароход, который купил у одного богатея. Помню, папа рассказывал о том, как он придумал крыть крыши домов черепицей. В то время большинство домов было крыто тесом, и частые пожары наносили много вреда. А когда папа предложил крестьянам крыть крыши черепицей, то они долго сопротивлялись этому.
– Что-то похожее в России было и с картошкой…
– Что вы! На папиной памяти было – он родом из Симбирской губернии – как трудно было прививать, сажать помидоры в конце прошлого столетия…
– Когда вы приехали в Казань?
– В Казань мы переехали в 27-м году. Так что я застал еще хвостик нэпа и хорошо помню все эти шикарные магазины, полные всяких товаров. В прошлом это были частные магазины, которые во время нэпа сдавались большей частью в аренду бывшим хозяевам. Вот, скажем, здание, которое все еще занято КГБ на Черноозерской улице, ныне она под псевдонимом Дзержинского. Там до установления большевистской власти была кондитерская фабрика, того же самого цвета, что и сейчас – под шоколад. Так вот во время нэпа – большевики и КГБ здание, конечно, не вернули – хозяева жили напротив и наладили производство шоколада, конфет у себя дома и продавали из окна, а когда была хорошая погода, выносили на улицу.
Потом из магазинов все исчезло. В Казани было очень голодно. Ввели карточки. Теоретически на них можно было купить хлеб, но не всегда. Близкие моих родителей – тоже учителя – съели свою любимую собаку. По Казани ходили слухи, что ночью, когда приходил поезд, неизвестные лица предлагали пассажирам ночлег, ночью их убивали и делали пирожки. Но все это были слухи, и точно ли это было, я сказать не могу.
– Как же так – изобилие и вдруг ничего?!
– Ну понятно, началась коллективизация.
– Значит, вы жили в Казани с 27-го по..?
– В 34-м мы уехали в Караганду. Может быть, вы помните в самом начале I-й главы своей книги «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург описывает Казань 34-го года? Так вот, в частности, там говорится, что несколько семей в том году уехало в Казахстан. Мы были в числе этих семей.
– Уехали от греха подальше?
– Да, буквально так.
– Интеллигенция предчувствовала репрессии?
– Не только предчувствовали – донимали невероятно. Папу часто вызывали в ГПУ. Он был беспартийным, а они никак не могли мириться с тем, что он не хочет вступать в партию.
– Можно сказать, что среди интеллигенции было негласное отвращение к большевистской власти?
– Ну, конечно. Коммунистов было очень мало. Это потом их появились какие-то миллионы.
– Среди самой интеллигенции коммунисты были?
– Были, но очень немного.
– Что вы делали в Караганде?
– Заканчивал школу, а потом в 39-м поступил в МГУ.
Мне хотелось получить серьезное историческое образование. Поскольку был отличником, то поступил без вступительных экзаменов.
– Какая тогда была Москва?
– Ну, Охотного ряда уже не было. Храма Христа Спасителя тоже – за забором высились какие-то конструкции, видимо, начинали строить Дворец Советов, правда, во время войны их разобрали. Очень многое изменилось в центре – гостиница «Москва», здание Совмина. Но такого безобразия, как Калининский проспект, еще не было. Москва была еще более приличной.
Мне очень повезло с учебой в МГУ. Преподаватели были люди серьезные, многие из них только что вернулись из ссылки.
– Скажите, в вашей студенческой среде обсуждались внутренние дела страны?
– Еще как! Очень даже обсуждались.
В общежитии были кружки. Это, кстати, традиция Московского университета. Некоторые из них были настроены очень радикально.
Вот, например, – начинается сессия Верховного Совета. И к нам в голову приходила мысль о том, что нужно бы провести пропаганду среди курсантов Кремля – когда все депутаты соберутся на сессию, то там их всех арестовать. Самым хорошим наказанием мы считали отправку в колхоз. А главное – запретить им выбирать Сталина председателем.
– А кто пользовался большим уважением – Сталин, Ворошилов, Калинин?
– Как же можно было уважать этих людей?! Ведь это же были преступники!
– И вы уже тогда это понимали?
– А чего ж тут не понимать! Только что кончилась ежовщина, все эти фиктивные процессы. Как же можно было не понимать, что это преступники.
– И что, об этом говорили вслух?
– Нет, об этом говорили между собой.
– Ну, хорошо, вы понимали, что Сталин и все остальные деятели партии были преступниками. А кем тогда для вас был Ленин?
– Вот насчет Ленина мне тогда было не ясно. До войны начало выходить четвертое издание собрания сочинений. Я купил первый том, прочитал его от корки до корки и решил, что все последующие тома я буду читать так же, чтобы выяснить – когда свихнулись?
– Когда началась война, вы были в Москве?
– Нет, тогда я был в Анапе, у меня умерла мама. В Москву я вернулся в середине июля. Занятия в университете начались с 1 августа, но фактически занятий не было, так как в ночь с 20 на 21 июля немцы начали бомбить Москву.
– Сильно бомбили?
– У немцев было очень мало самолетов. Радио, например, сообщает: «200 самолетов противника летят по направлению к Москве», а прорвется десятая часть. Сбрасывали они, в основном, не фугасные, а зажигательные бомбы. Они далеко не опасные, если их вовремя сбросить с крыши, то они не зажгутся. Но я должен сказать, что оборона Москвы была хорошая.
В начале сентября меня назначили преподавателем школы в Краснодарский край, хотя я и кончил всего два курса.
– Именно там вы попали в оккупацию?
– Да. Сначала пришли румыны. Немецкая оккупация наступила через некоторое время, и начался настоящий грабеж. Румынская политика была все же другой – они жили на подножном корму и занимались мелким воровством. Они же распустили все колхозы, непонятно, почему сейчас говорят, что трудно распустить колхозы?
Ничего не трудно – за неделю все разбежались. А вот немцы все колхозы восстановили.
– Как так?
– Ну, так колхозников легче грабить, чем отдельные хозяйства. Они даже названия прежние оставили.
– Коммунистов они вешали?
– Не знаю, нет, наверное. Слышал, что были какие-то партизаны, но они все ушли в леса.
– Как же вы попали в Германию?
– Когда их стали теснить, они часть населения вывезли на строительство оборонительных укреплений, а остальных в Германию.
– Сколько вы провели времени в концлагерях?
– Полтора года.
Я был в лагерях, которые принадлежали знаменитой немецкой военной фирме «Крупп». Там были самые большие верфи и строили подводные лодки. Теоретически мы должны были содействовать строительству, но наш КПД был отрицательный, так что никакой пользы от нас не было.
– Насколько правда то, что немецкие фашисты считали славян недочеловеками?
– По их мнению, славян не надо было уничтожать так быстро, как евреев или цыган. Насчет славян все было сложнее – их надо было поставить в такие условия, чтобы у них, во-первых, не было никакой власти, и, во-вторых, чтобы они не были расселены на такой большой территории. Ну а в-третьих, они должны быть лишены образования. Это была совершенно сознательная политика.
– А как вы объясните тот факт, что если немцы считали себя высшей расой, то откуда появилось столько союзников? Даже Япония и та…
– Они и скандинавов считали высшей расой, но те – увы – «заблуждались». Голландцев усиленно старались убедить, что они братья. Ну а другие страны – Румыния, Венгрия – считались союзными, но не были оккупированы. А вот японцы числились у них почетными арийцами. Конечно, физиономия у них была не та, но тут была теория. Политика – это выражение расовой сущности, а японцы ведут правильную политику.
– Кто освободил вас из концлагеря?
– Англичане.
– Поэтому вы решили остаться на Западе сразу?
– Нет, сначала я объелся сухого фарша, который мы нашли неподалеку от лагеря. Потом долго болел.
Потом после двух случаев самосуда англичане сказали, что они не хотят иметь дело с такой публикой и пригласили советские власти. Явилось два офицера из СМЕРШа. Жи-ирные такие! Собрали митинг, и один из них сказал: «Родина вас простила!» Тут весь лагерь вздохнул: «Ах ты сукин сын, мы тут с голоду чуть не сдохли…» Но с их точки зрения все логично было. Вскоре в лагере создалась атмосфера, напоминавшая мне ежовщину. Но и тогда у меня не было мыслей оставаться. И только когда многие, побывавшие в советской зоне, стали возвращаться… В общем, из британской зоны, насколько я знаю, не вернулась в Союз треть.
Вы поймите, я хотел вернуться на родину, хотел. Но на родину, а не в лагерь. Он мне и в Германии надоел.
– И что же дальше? Вам не было страшно, что вы остались на Западе?
– Киль – университетский город, а у меня с собой были документы Московского университета. Я отправился в университет, предъявил документы. Это было в мае, а в августе мне зачли четыре семестра МГУ, и я стал студентом Кильского университета.
Жили мы в тех же лагерях на попечении англичан, немцы были обязаны нас кормить. Учились бесплатно, нам даже выдавали карманные деньги. Университет закончил в 49-м, а в 50-м уехал в Англию, потому что там мне предложили стипендию в Оксфорде. Там был аспирантом и получил еще одну ученую степень – первую я получил в Кильском университете. Потом преподавал в Лондонском, Оксфордском, Глазговском университетах…
– А потом уехали в Америку?
– Да, в 68-м году.
– Америка лучше Европы?
– Да мало ли какие могут быть соображения. Кроме всего прочего, там я нашел новую жену – русскую.
Первая жена у меня была дочь Альбиона, она и сейчас жива. У нас очень хорошие отношения, но она была совершенная дочь Альбиона, и мне это, в конце концов, надоело.
Я так и не привык к Англии. Особенно к ее пище. По-моему, английская пища несъедобная.
– И как вам Америка после Европы?
– Удобств там больше. Но я поехал туда не за материальным благополучием.
– Вы там преподаете?
– Преподавал в Стэнфордском университете. С 1984 года на пенсии.
– Что помогло вам сохранить такое великолепное знание русской речи? Многие наши бывшие соотечественники, приезжая в Россию, говорят с акцентом.
– Это зависит от умонастроения. Они хотят быть иностранцами. Я же никогда не собирался быть полным иностранцем и никогда не принимал иностранного гражданства. Я жил в Англии и США, но никогда не принимал их подданства. Это свободные страны, и они давали возможность жить свободно. Ну, не голосовал, ну и что ж? Зато вот сейчас, в апреле, голосовал на референдуме в Москве.
– Когда вы приехали в Россию?
– В августе 92-го. Через 51 год. И был в телячьем восторге от Москвы, москвичей.
– А Казань?
– Просто замечательно! Оказалось, что я очень хорошо помню ее. В центре все то же самое. Вот только эти два высотных здания на университетской территории надо будет когда-нибудь ликвидировать. Они портят казанский небосвод.
– Сергей Васильевич, были ли вы знакомы с кем-нибудь из выдающихся русских эмигрантов?
– Самый известный, наверное, это Александр Федорович Керенский. Знал его долгие годы. Я помогал составлять ему последнюю книгу. Знал историков Мигунова, Ульянова.
– Что за человек был Керенский?
– Он был очень порядочным, в некоторой степени наивный. Самое важное то, что в 1916 году ему вырезали почку и в 17-м почти все время у него были сильные боли. Вы помните, наверное, что он был истеричный и в обморок падал? Так это он в обморок от болезни падал, он не выдерживал болей.
– Это правда, что он был великолепным оратором?
– Он был одним из трех величайших ораторов того времени. Первым был Троцкий, второй – Пуришкевич.
Отец Керенского был, как известно, директором той гимназии, где учился Ленин. Керенские были очень дружны с Ульяновыми. Отец Керенского был потом назначен попечителем Туркестанского учебного округа, и Александр Федорович кончал гимназию уже в Ташкенте. Поэтому-то он и не помнил Ленина. Но он помнил, что в Ташкенте у них в квартире висела знаменитая фотография семьи Ульяновых – та, где Ленин маленький, кудрявенький, и Илья Николаевич.
– Был ли Керенский убежден в том, что Ленин – немецкий шпион?
– Он никогда не был в этом убежден. Он даже не представлял, чем тот занимался в эмиграции.
– Как считал Александр Федорович – кто же погубил Россию?
– У него было очень много отрицательного к монархии. Он ненавидел Александру Федоровну…
– Из-за Распутина?
– Да, все это сказывалось. Но большей частью все это неправда – не влиял Распутин на политику. Он считал, что в значительной степени Россию погубил Корнилов своим выступлением. Это заставило Керенского и других перестроиться, пойти на союз с Советами, с большевиками. Он мучился всем этим. Ведь каждый черносотенец считал своей обязанностью дать ему пощечину. Жизнь у него была не ахти какая…
Дата интервью: 1992-05-07