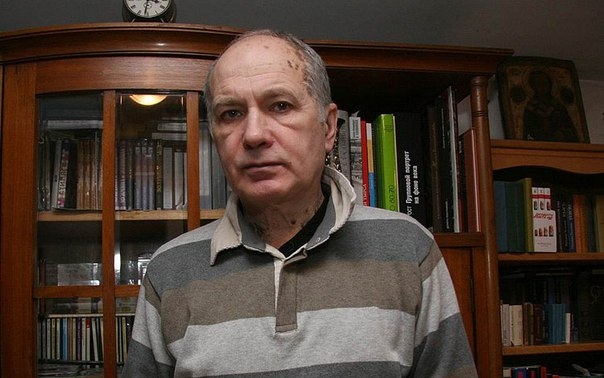Современные психологи пытаются объяснить творчество поэтов, музыкантов, артистов с точки зрения психических расстройств. Можно ли с этих позиций говорить о Пушкине, насколько изменились посетители музея поэта за последние годы, как повлияли долги на его судьбу, и своих предположения, что стало бы с ним, если бы он остался жив после дуэли рассказала заведующая музеем-квартирой Пушкина Галина Седова.
– Галина Михайловна, правда, что ваш музей не имеет плана по посещаемости, и вы не гонитесь за ней?
– Кто это вам такое сказал? У нас есть планы и на квартал, и на год. Каждый месяц мы пишем отчет. Другое дело – количество посещений. Вот, например, в январе прошлого года у нас было 5 800 посетителей, а в мае уже одиннадцать тысяч. Для нас это сумасшедшие цифры.
– Почему?
– Потому что мы находимся не в музее, а в жилом доме, в квартире. Вот к вам домой может придти в месяц двенадцать тысяч человек?
– Вряд ли, но в Эрмитаж приходит куда больше посетителей.
– Это дворец. Зимний дворец для того и строился, чтобы его посещали – маскарады, балы, концерты. Жилой дом строился для иных целей, в нем могли бывать только близкие. Когда у гроба Пушкина в течение двух дней побывали тысячи петербуржцев, все были потрясены подобным столпотворением, и даже тогда, когда на чисто «домашнюю» церемонию ― последнюю литию ― в дом пришли два десятка друзей, а следом за ними вошло столько же жандармов, домашним показалось, что свет перевернулся. А у нас за месяц бывает до двенадцати тысяч человек. Такого нет ни в одном литературном музее мира. Считается, что мы – лидеры по посещаемости.
– В России или в мире?
– В России. Но я говорю не вообще о местах, где жил тот или иной писатель, не о музеях-заповедниках. Тут лидеров нет, все равны ― и Иван Тургенев, и Лев Толстой, и Михаил Шолохов, и Сергей Есенин, да и Пушкин с михайловским или болдинским заповедниками, я имею в виду именно музеи, живущих в маленьких квартирах. Можно сказать, что и Россия является лидером по посещаемости литературных мемориальных музеев.
В Европе подобный музей ― место для специалистов. Кому интересно смотреть, как и чем жили Бальзак или Гюго? Меня поразило, что в их музеях в Париже почти нет ни одного человека! Наполеон и Жозефина ― иное дело, для массового посетителя их дом в Мальмезоне оказывается более привлекательным. Но это музей не литературный, а вот совсем рядом с Мальмезоном находится Буживаль ― место, которое в 1870―х годах было одним из центров духовной жизни Парижа. Место это связано с именами Ивана Тургенева и Полины Виардо, но тургеневский музей удалось здесь создать лишь «привязав» к нему историю сестры Полины Виардо ― рано ушедшей из жизни знаменитой оперной певицы Мари Малибран, с которой Тургенев даже не был знаком. Кто же такой Тургенев, там мало кому интересно. Копаться в прошлом свойственно больше русскому человеку.
– Вы сами проводите экскурсии?
– С удовольствием.
– Обычные?
– Разные, но, по большей части, для специалистов и гостей музея.
– Кого из наших политиков водили?
– В 1999 году, когда страна вспомнила о пушкинском юбилее, в доме на Мойке, 12 побывали и Владимир Жириновский, и Геннадий Зюганов. Несколько раз здесь ждали прибытия Бориса Ельцина. Однажды, когда все было готово к его визиту, мы получили информацию по телефону: «Едет». А через полчаса ― новая информация: «Проехал…». И все же надеемся, что сегодняшним главам нашего государства будет интересно заглянуть в музей, о котором в одном из иностранных путеводителей написано: «Если хотите узнать душу России, обязательно посетите музей-квартиру на Мойке, 12».
Кстати, и иностранные гости нередко бывают у нас, особенно часто ― французские. Бывал у нас экс-президент Франции Жак Ширак, а его коллега Валери Жискар д’Эстен даже дважды. Яркие впечатления остались от встреч с обаятельной Катрин Денёв или с увлеченной историей России Элен Каррер д'Aнкосс ― непременным секретарем Французской академии. Бывали у нас и председатель КНР Цзян Цзэмин, неожиданно прочитавший нам стихи Пушкина русском языке, и сестра английской королевы принцесса Маргарет, и бельгийский принц Филипп…
Как-то по-особому прошел визит Виктора Черномырдина в то время, когда страна больше занималась политикой, и всем было не до Пушкина. Тогда он приехал в город первый раз, как премьер-министр. Нас предупредили о его возможном визите, но график был настолько плотный, что мы и не надеялись, что придет. Мне позвонили поздно ночью, и поинтересовались: не будет ли музей возражать, если Черномырдин приедет завтра утром до открытия ― в десять часов?
Было очень приятно вести его по музею, я видела искреннего, живого, по-человечески реагирующего посетителя. Потом он попросил показать ему посмертную маску Пушкина, говорил, что с детства мечтал посмотреть на нее, потому что копию этой маски видел в своем родном Оренбурге в музее Владимира Даля. Планировали, что экскурсия продлится минут пятнадцать, а вышло почти что сорок. И было еще одно, что удивило в Черномырдине.
В советское время в музее существовала традиция – показывать высоким гостям кольца Пушкина, которые доставали из специального сейфа. Говорят, что все гости обычно примеряли их на свои руки. Как-то в начале восьмидесятых в музей приходил артист Юрий Яковлев. Ему показали кольца и даже поинтересовались: «Мерить будете?». Он удивился: «Зачем?». Потом весь музей обсуждал это событие. Надо же, нашелся человек, который не прикоснулся к пушкинским реликвиям!
Когда Виктор Черномырдин подошел к столу, на котором специально для него разложили эти кольца, я увидела, как он трогательно убрал свои руки за спину, наклонился и стал внимательно их рассматривать. Ему даже в голову не пришло, что их можно потрогать.
– Изменилась ли сегодняшняя публика по сравнению с прежней?
– Очень изменилась. Я начинала работать еще в восьмидесятые годы. Тогда приходили люди, воспитанные на школьной программе, знавшие, что Пушкин – это наше все, что он «борец с самодержавием» и друг няни Арины Родионовны, приходили испытать катарсис ― побывать в том месте, где он страдал и умер. Кто-то приходил из любопытства, кому-то важно было «отметиться». Дескать, был в Ленинграде, где непременно следует посетить, сфотографировать – Эрмитаж, Русский музей, колоннаду Исаакиевского собора, «Аврору» и квартиру Пушкина. Вот такой набор. Да, еще Кунсткамера и Петропавловская крепость, потому что в ее казематах сидели декабристы. Экскурсоводы гордились друг перед другом тем, как им удавалось вернуть в человеческое состояние таких туристов, утомившихся после посещения за один день третьего музея.
Недавно моя подруга рассказала мне об одной экскурсии в восьмидесятые годы в Лицее. Приехала группа – женщины в кримпленовых платьях, и почему-то все были с авоськами, видимо, из глубинки. После экскурсии одна из них спросила: «А что же было дальше с тем мальчиком?». «С каким?» ― не понимает экскурсовод, в Лицее училось много мальчиков, и она тоже рассказывала про них. Может, она про Кюхельбекера спрашивает? «Ну тот, что еще стихи Державину читал. Что ж Вы не рассказали, что дальше-то с ним было? Может, женился? …Детки были…».
Приходила и интеллигенция, те, кто собирали книги о Пушкине, читали их и действительно стремились приобщиться здесь к тому, о чем знали. Житейские подробности им были неинтересны. «Нам не нужно экскурсий, ― говорили такие посетители, ― нам бы лишь войти, подышать атмосферой этого дома».
Потом началось страшное время девяностых. Учителя стали приводить детей в день памяти 10 февраля, а дети не знали: зачем их привели сюда? Они играли в снежки, смеялись. Мы старались успокоить их, чтобы не получилось позорища. Было несколько лет какого-то кошмара. Все меньше становилась та горстка людей, которым важно было оказаться здесь именно в те минуты, когда сердце Пушкина остановилось.
И вдруг, как по мановению волшебной палочки все преобразилось. Теперь во дворе на Мойке, 12 можно встретить молодых людей, которые воспринимают Пушки на частью своей культуры, многое знают наизусть. Недавно приезжала съемочная группа, и первый попавшийся молодой человек на роликах (!) легко откликнулся на их просьбу прочитать что-то из Пушкина и прочитал едва ли не всю первую главу «Евгений Онегина».
Сегодня среди посетителей музея есть те, кого больше интересует творчество Пушкина, но немало и тех, кому важно узнать подробности его жизни. Они не как та женщина, которая спрашивала: «что было потом с мальчиком?», но некоторые из них еще путаются – кто в него стрелял: Дантес или Данзас, кто был секундантом на дуэли, или когда сестра Пушкина вышла замуж за Дантеса: до дуэли или после?
– Сегодня появилась странная тенденция: объяснять творчество поэтов, музыкантов, художников с помощью психологии, или побочных ей учений. Как вы думаете, можно ли с таких позиций объяснить поэзию Пушкина?
– Психология помогает изучить человека с неожиданных сторон. Это бесспорно. Но чтобы понять гения, этого недостаточно. Психологи говорят, что Пушкин был неврастеником, у него были какие-то патологические отклонения, и этим как будто легко объясняется его творчество. Но тогда возникает вопрос: почему же любой неврастеник, человек с некоторыми отклонениями от нормы, не может стать Пушкиным? Да потому, что мир духа, творческую жизнь невозможно вписать в узкие рамки одного научного метода, объяснить одной лишь мотивацией поведения.
– Или фен шуем.
– Да, что-то в этом роде: если бы диван в кабинете стоял бы по фен шую, то, якобы, Пушкин мог бы еще пожить. Не исключено, что диван как раз стоял «правильно», но жизнь гения не вписывается в правила, она выстраивается по непривычным для обывателя ― художественным законам. И поэт часто сам лепит свою судьбу, сочиняет (не всегда осознанно) свой образ, создает «поэму» собственного бытия. Как раз это и является притягательным для тех, кому интересна судьба гения.
Однако наше время любит все упрощать. С одной стороны замечательно, что в одно мгновение можно найти в интернете любую информацию. Но информация эта однозначная, пресная. И я с грустью замечаю, что зачастую посетителям музея нужна именно такая ясность и однозначность. Едва начинаешь говорить о многоплановых, сложных явлениях, они теряются. Клишированному сознанию не за что зацепиться.
– В своей докторской диссертации вы писали о религиозности Пушкина. Был ли он на самом деле по-настоящему религиозен?
– Сложнейший вопрос. Известно, что Пушкин не жаловал современную ему официальную церковь и духовенство, но неправильно говорить, что он не постился, не бывал на исповеди, не читал религиозной литературы. Бывал, читал, многое помнил наизусть. Но все же воцерковленным человеком не был, хотя верил в бессмертие души и Провидение. В советской литературе он был представлен эдаким атеистом, а в конце XX века вдруг превратился в глубоко верующего православного христианина. И то и другое ― крайности.
Истинно верующей в семье Пушкиных была Наталья Николаевна. Она и постилась, и соблюдала все обряды. Пушкин, который был тринадцатью годами старше, получал удовольствие от того, как учил ее жить – быть женщиной, красавицей при дворе, управлять прислугой. Вместе с тем она крепко держала в своих руках его сердце, немного им манипулируя в житейском плане. Пушкин же легко и с удовольствием давал вовлечь себя в домашние церковные обряды ― пост, исповедь, крестины. Для него это было очень трогательно и важно, как для человека семейного.
Но он до конца своей жизни, так и остался вольтерьянцем. Николай Iбыл неглупым человеком, когда сказал: «Мы довели Пушкина до смерти христианской». Тут царь, конечно, немного преувеличил, никто буквально не вел за руку Пушкина к последнему причастию, однако, царь надеялся, что это случилось только благодаря ему одному.
Как знать, что было бы, если бы у Пушкина не было семьи, которую он оставлял голой ― без средств к существованию, с колоссальными долгами? Не будь семьи, возможно, он не стал бы так демонстрировать свою религиозность перед смертью. Но все же умирал он как христианин, как православный, хотя за два-три года до смерти часто обращался не к православию как таковому, а к этической составляющей христианской веры ― тем основам на которых строится человек, его совесть и взаимоотношения с близкими.
– В своей докторской диссертации вы писали о религиозности Пушкина. Был ли он на самом деле по-настоящему религиозен?
– Сложнейший вопрос. Известно, что Пушкин не жаловал современную ему официальную церковь и духовенство, но неправильно говорить, что он не постился, не бывал на исповеди, не читал религиозной литературы. Бывал, читал, многое помнил наизусть. Но все же воцерковленным человеком не был, хотя верил в бессмертие души и Провидение. В советской литературе он был представлен эдаким атеистом, а в конце XX века вдруг превратился в глубоко верующего православного христианина. И то и другое ― крайности.
Истинно верующей в семье Пушкиных была Наталья Николаевна. Она и постилась, и соблюдала все обряды. Пушкин, который был тринадцатью годами старше, получал удовольствие от того, как учил ее жить – быть женщиной, красавицей при дворе, управлять прислугой. Вместе с тем она крепко держала в своих руках его сердце, немного им манипулируя в житейском плане. Пушкин же легко и с удовольствием давал вовлечь себя в домашние церковные обряды ― пост, исповедь, крестины. Для него это было очень трогательно и важно, как для человека семейного.
Но он до конца своей жизни, так и остался вольтерьянцем. Николай Iбыл неглупым человеком, когда сказал: «Мы довели Пушкина до смерти христианской». Тут царь, конечно, немного преувеличил, никто буквально не вел за руку Пушкина к последнему причастию, однако, царь надеялся, что это случилось только благодаря ему одному.
Как знать, что было бы, если бы у Пушкина не было семьи, которую он оставлял голой ― без средств к существованию, с колоссальными долгами? Не будь семьи, возможно, он не стал бы так демонстрировать свою религиозность перед смертью. Но все же умирал он как христианин, как православный, хотя за два-три года до смерти часто обращался не к православию как таковому, а к этической составляющей христианской веры ― тем основам на которых строится человек, его совесть и взаимоотношения с близкими.
– Можно ли сказать, что слова поэта «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв» были его искренним убеждением?
– Конечно. Если Пушкин о чем-то говорил, значит, он так думал. Это Некрасов мог себя вести одним образом, а в творчестве осуждать поведение, которому следовал. Я уж не говорю о поэтах двадцатого века. У Пушкина все было искренне, и молитва в данном случае не религиозная молитва, а поэтическая. Поэт говорит на языке богов, и в этих словах заключено его жизненное кредо.
Тут есть и противоречие. Жизнь вносит коррективы, и поэту часто не удается делать то, о чем он мечтает. Он существует в этом противоречии. В 1836 году Пушкин понимает, что стремится к вершинам духа и как художник, и как человек, но есть повседневность, которую он не в силах ни изменить, ни оставить. Мицкевич справедливо его упрекал в том, что Пушкин не пошел тем путем, которое провозглашал в творчестве, сломался на этом и погиб.
Но он не пошел тем путем потому, что ему хотелось иметь семью, детей, жить при дворе, его все это устраивало. В тоже время его раздражает, что у него нет свободы для творчества, что он не может подняться к тем вершинам, о которых мечтает, потому что эти вериги тянут его вниз.
– Юрий Нагибин писал в своих дневниках о встречах с Гейченко. В одну из встреч Гейченко сказал, что пришел к выводу, что дуэль была для Пушкина выходом из тяжелого положения. Семья была большая, ее надо было содержать, доходов практически никаких, а долгов так много, что непонятно как их отдавать. Насколько прав Гейченко в своем предположении?
– Он не занимался последними годами жизни Пушкина, а глядя из михайловского рая на жизнь в Петербурге, может показаться, что это клубок из которого невозможно выбраться. Многие пушкинисты во времена Гейченко трактовали конец пушкинской жизни именно так.
Я вижу все иначе. Долгов у него было много всегда, и этот клубок он раскручивал постоянно, и не только он один. Я по образованию историк, и когда смотрела архивы многих современников Пушкина, в том числе и богатых людей, то обратила внимание на колоссальное количество долговых бумаг. Например, люди брали сто тысяч в долг на год. На следующий год они уже брали в долг сто сорок тысяч и отдавали предыдущий, через год они брали еще больше. Таким образом семья могла жить целый век, шикуя, устраивая балы, приемы. В пушкинское время дворянству легко было жить в долг. После 1861 года так жить уже не получалось.
Пушкин шутил: «У меня одна деревенька, и та на Парнасе», понимая, что его Кистенево ничего ему не приносит. Тем не менее, он – дворянин, он пишет, печатается, имеет чин при дворе, который давал шанс не сгинуть, ему дают ссуду. Общий долг Пушкина составлял сто сорок тысяч, из них сто были частные, сорок – царю. Николай Iскостил после смерти долг, причитавшийся двору, а частные оплатила опека. Сказать, что эти долги были для Пушкина унизительны, будет не совсем точно.
Другое дело, что камер-юнкер был самый низший придворный чин, с него начинали придворные службу. Вы даже себе представить не можете, какая была в то время иерархия в обществе. Если он появлялся при дворе как поэт, то он был вне системы. Если же на приеме поэт был в мундире камер-юнкера, то он снова был никем. Он мог подойти к каким-нибудь генералам, и те могли с ним даже не разговаривать. Камер-юнкеру могли прислать повестку, что он обязан сопровождать голландского посла на бал. И, по правилам, он должен был бы ехать за запятках кареты и, спрыгивая, открывать дверь. Пушкин понимал, что ему не придется этого делать, но знал, что теоретически, такая повестка могла прийти в его дом.
– В своих дневниках Пушкин жалуется, что его убивала обязанность бывать на балах при дворе.
– Он пытался избегать этих обязанностей: мог сказаться больным и не поехать на бал. Но царь разгадал этот маневр и как-то на бале «вымыл голову» (слова Пушкина) жене поэта. Все-таки для придворного повестка была документом для исполнения, а не ознакомления.
– Повестка – это что-то вроде приглашения?
– Да. В ней было указано, по какому случаю состоится бал, в каких костюмах должны быть придворные. Для Николая Iбыло важно, как выглядит двор.
Пушкин с трудом во все это вписывался, но он не был сломлен. Он привык переносить внешние события стоически. Думаю, что он с рождения сжился с мыслью, что он урод. Не в том смысле, что не красив, а в том, что не был в ладу с данным родом, был не таким, как все.
– Вы про цвет кожи?
– И про него, и про характер. Он хорошо помнил раздражение матери, когда та увидела каким он стал арапчиком. Он все время ждал, что ему надо отвечать на эти удары. Такая, как у него внешность, была нонсенсом в то время, тем более в дворянской среде. При дворе были иностранцы, но они были европейцами. Когда Булгарин написал, что дед Пушкина был куплен за бутылку рома, это было крайне оскорбительно для поэта, и он объяснил, что Ганнибал был «царю наперсник, а не раб».
Со временем он научился бравировать своим африканским происхождением. Как-то в жаркий летний день граф Васильев с утра пораньше зашел к Пушкину на дачу и увидел, что тот был в халате на голое тело ― как рассказывал потом граф, «в прародительском костюме». Пушкин поймал на себе удивленный взгляд своего гостя и отшутился: «Жара стоит африканская, а у нас в Африке все так ходят». Тогда ему было уже за тридцать, и он мог себе позволить так шутить.
А каково ему было, когда его не принимали молодые девушки? Они с восторгом могли ответить на его страсть, но боялись его глубоких чувств. Найти подругу жизни с такой экзотической внешностью, да еще с непонятным прошлым, когда он успел написать антиправительственные стихи, был уволен со службы и сослан, было трудно. Где бы он не появлялся, он всегда знал, что придется отражать удар. Все это со временем накапливалось, в ожидании нового подвоха от общества.
Разговоры о том, что его камер-юнкерство настолько его унизило, что поэт готов был лезть в петлю, на самом деле, полная нелепица. Денег ему всю жизнь не хватало, это тоже не причина. Страшным было другое. Поэт для того создан природой, чтобы не только писать стихи, но и слышать ответ читателя, быть понятым. Самая страшная для него трагедия была его невостребованность.
– Публика была готова услышать его?
– В том-то и беда, что после декабрьского восстания его друзья оказались в Сибири, а те, кого миновала чаша сия, боялись и слово сказать. Пушкин потерял собеседников даже среди близких ему людей.
Тридцатые годы оказались гибельными: его не слышат, не читают, его журнал «Современник» лежит нераспроданный в его доме. Последнее угнетало не потому что он не заработал на издании журнала, заработать он мог и другим способом. Пушкин понимает, что он абсолютно не нужен читателю.
– Советские поколения школьников учили, что Пушкин боролся с самодержавием, и очень много страдал за народ, постоянно был в долгах. Как же все это сочетается с тем, что жил он, в сущности, в престижном районе, в пяти минутах от работы, то есть от Зимнего дворца?
– В то время весь Петербург селился ближе к дворцу, центральный район был самым дорогим. Пушкин не имел финансовой возможности выбирать, где ему удобно жить. Он всегда подыскивал то место, которое предлагали друзья, знакомые или где было подешевле.
Предыдущая его квартира была в доме Баташова, около Летнего сада. Это была бывшая квартира Петра Вяземского, который уехал в Италию. В том доме Пушкин стал камер-юнкером, написал массу своих произведений, и я всегда считала, что именно в том доме должен быть Всероссийский музей Пушкина. Все главное, что было написано зрелым Пушкиным, написано именно там. К счастью, дом сохранился, но в нем жилые квартиры, и как я понимаю, никакого музея в обозримом времени там не будет.
С осени 1836 года Пушкин нашел более дешевую квартиру в доме княгини Софьи Волконской. Управляющий ее делами граф Алексей Перовский предложил квартиру Пушкину по довольно низкой цене.
– Ему было по карману?
– Он платил за нее четыре тысячи ассигнациями в год. По тем временам это была средняя цена, но Пушкин не всегда успевал выплатить и такую сумму в положенный срок, оттягивал сроки оплаты.
Для него квартира Волконских была идеальным вариантом. Во-первых, близость к центру города и даже ко дворцу. Во-вторых, неподалеку живут его друзья – Жуковский, Карамзины, Одоевский.
– У каждого, кто долго, как вы, исследует историю, есть свои версии развития событий. Вы задумывались: что стало бы с Пушкиным, останься он жив после дуэли?
– Конечно, думала. У нас была бы совсем другая литература. Потому что Гоголю, Достоевскому, Толстому пришлось бы делать что-то совсем иное, так как у Пушкина уже было намечено то, что им пришлось совершить.
По всей видимости, ему удалось бы уехать в Михайловское, где он стал бы работать и заниматься философией. Наверное, ему была бы интересна общественная мысль. Как известно по советской школьной программе, Пушкин был «борцом с самодержавием», но я-то вижу в тридцатые годы Пушкина-консерватора. Не случайно либералы и будущие демократы не принимали его, они видели его аристократизм. Если говорить грубо и однозначно, то он становился сторонником просвещенного абсолютизма, конституционной монархии.
– Помнится, еще пролетарские писатели предлагали сбросить его с парохода современности.
– Они очень хорошо чуяли, что он принадлежал к другой среде. Если бы он прожил до середины девятнадцатого века, когда общество колебалось и не понимало как жить дальше, то ответил бы на многие вопросы.
– Стал бы он брюзгой в старости?
– Не думаю. Он был слишком высок духом. Он часто мирился с противоположной точкой зрения, ему нравились общение с молодыми людьми и новые неожиданные взгляды. Наверное, он все-таки стал бы философом, интересным, неожиданным для России.
– «Когда б вы знали из какого сора растут стихи…». Много такого сора было у Пушкина?
– Когда смотришь его черновики, то кажется, что у него сразу все ложилось на бумагу, и каждая фраза ― драгоценность. Но он продолжал поиск более точных слов, из тех вариантов, которые ему давало вдохновение, выбирал единственно лучшее. Может быть то, что он оставлял в черновиках, и было для него сором, но для нас это бесценно. Иногда не понимаешь, как можно было отбросить то, что он зачеркнул?
Сором, скорее, можно назвать повседневную жизнь, которая тяготила его. Но он был таким солнечным человеком, что умудрялся выскользнуть из этих забот. Умел встряхивать себя, и если его что-то раздражало, то быстро выплескивал плохое настроение чрезвычайно эмоционально.
Пушкину удавалось все в жизни расставить по своим местам, он был человеком искренним и цельным, другой такой личности русская жизнь не знает. Когда Гоголь говорил «Пушкин – это русский человек в его развитии, который явится через двести лет», это была чистая правда.
– И вот прошло двести лет. Где же пушкины?
– Но вы оглянитесь на эти двести лет. Разве Гоголь знал, что будут сталинские концлагеря и философские пароходы? Говорят, что французы утверждают примерно так: «Уничтожьте двести наших бессмертных (имея в виду своих академиков), и мы станем нацией идиотов». У нас было уничтожено не двести человек, и вы еще хотите, чтобы после этого русский человек развился до уровня Пушкина?
Вы уже более двадцати лет работаете в музее, каждый день ходите мимо святых для русской литературы вещей. Не появлялось у вас чувства пресыщенности работой в музее?
– Вот вы сказали: проходите мимо… Это экскурсанты каждый день проходят мимо, а мы живем с этими вещами. Они дают возможность ощущать близость людей, живших в этом доме. Я замечала, например, как меняется портрет Натальи Николаевны в зависимости от того, кто и с каким настроением его рассматривает.
У нас существует такой обряд: когда вы входите во двор музея, то перед калиткой обязательно наклоняетесь, потому что она низкая…
– Это специально?
– Калитка высоты пушкинского времени. Правда, мне кажется, что она все-таки была выше, просто тогда был ниже культурный слой. Когда к нам приходил Тонино Гуэро, он ударился головой о верх калитки, и потом написал в книге отзывов: «Дом Пушкина существует для того, чтобы почувствовать себя ниже ростом».
Сотрудники музея чувствуют себя если не ниже ростом, то, по крайней мере, в другом пространстве.
– Неужели не приелась работа? Ведь даже загостившиеся родственники могут надоесть.
– Пока нет. Наверное, потому что все свое время я занята этим домом, вещами, которые жили и живут здесь до сих пор. Вот стоит у нас диван в кабинете Пушкина. Казалось, определить, что он подлинный, невозможно. Но вот нашлись эксперты―криминалисты, которые взялись за анализ поверхности дивана. И вдруг из тридцати смывов с кожаной обивки один дал неожиданный результат ― след крови, причем очень старый. Тут же экспертам предложили сравнить то, что они обнаружили, с кровью на подлинном жилете Пушкина, с сохранившимся локоном его волос. Когда нам показали результаты, я не поверила своим глазам. Оказалось, что и волосы, и кровь на диване, и на жилете принадлежали одному человеку ― мужчине со второй группой крови. Вот вам, пожалуйста, пример. Сколько лет мы проходили мимо этого дивана, даже внимания на него кто-то мало обращал. Теперь у нас стало на одну подлинную вещь больше.
Дата интервью: 2011-02-13