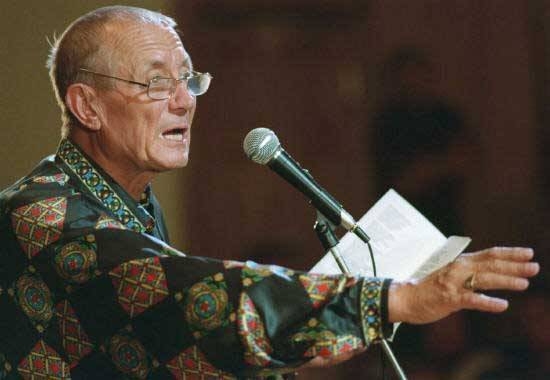Русский советский поэт. Автор множества сборников стихотворений и нескольких поэм, таких как "Братская ГЭС", "Казанский университет", "Мама и нейтронная бомба" и др.
– Евгений Александрович, вы преподаёте в американском университете города Талса штата Оклахома русскую поэзию и русское кино. Насколько большой интерес к вашим лекциям?
– Раньше у меня было очень много студентов. Когда лекции были открытые, на них записывалось более ста человек. Теперь мне поставили лимит – сорок человек. В американских вузах есть такое правило: если профессор не набирает восьми студентов, то ставится вопрос о его увольнении, и никакой профсоюз не поможет.
Мне объяснили, что есть предметы, на которых не должно быть много студентов. Например, язык. Если на лекциях по языку слишком много студентов, то он девальвируется. Мне сказали, что я невольно оттягиваю студентов – они же сами рвутся на мои лекции! – у других профессоров. Поэтому решили, что у меня будет лимит сорок студентов, но ещё десять наиболее способных я могу набирать по своему усмотрению. Но я не только преподаю, выступаю и в других университетах.
– Почему вы преподаёте именно в Америке, а не Европе?
– Потому что я многому научился у Америки ранних 60-х годов, где кипела тогда бурлящая жизнь, борьба против расизма, против милитаризма, против бюрократии, в которой принимала участие вся передовая интеллигенция США, в том числе и писатели.
Я увидел двухмиллионную демонстрацию в Нью-Йорке против войны во Вьетнаме, где в одной колонне в обнимку шли Артур Миллер, Бенджамин Спок, Мартин Лютер Кинг и свои песни пели тогда ещё совсем молодые Джоан Байез и Боб Дилан. До сих пор я у меня перехватывает горло от волнения, если я слышу великую песню «We shell over came» – «Мы победим, придёт день, когда мы победим…» К сожалению, эта песня сейчас стала забываться и в Америке, но я всегда напоминаю её моим американским студентам.
Там я впервые воочию открыл для себя, какую силу представляет протест.
Я написал в 1968 году после вторжения брежневских танков в Чехословакию: «Единственный прогресс без горьких жертв ненужных – протест, протест, протест – оружье безоружных». Это было и об Америке, и о нас. Не случайно наша цензура долго не хотела пропускать мою двунаправленную поэму «Под кожей статуи Свободы», а потом замечательный одноимённый спектакль Юрия Любимова на Таганке. Если бы её не прикрыл своей вступительной статьей Константин Симонов, не видать бы ей свету белого.
Я вообще стал с той поры именно двунаправленным поэтом – против бюрократии, капитализма и социализма. Поэтому меня полюбила молодёжь и у нас, и там, и в то же время не любили снобы и жлобы. Мои многие стихи, например, «Письмо Есенину», «Танки идут по Праге» ходили в нашем самиздате, а стихи на смерть американской студентки Аллисон Краузе, застреленной во время разгона студенческой демонстрации, разбрасывались в США, как листовки. В наших газетах писали о преступлениях американцев во Вьетнаме, но гораздо меньше писали о том, какая борьба идёт в самой Америке против этой войны. В сущности, ведь сами американцы остановили войну во Вьетнаме благодаря этим огромным демонстрациям и противодействию этой войне.
– А разве советское оружие не помогло Вьетнаму?
– Помогло прежде всего мужество самих вьетнамцев. Наше оружие тоже помогло, но наши инструкторы, в отличие от предыдущей корейской войны, в прямых боевых действиях участия не принимали. Слава Богу, сейчас бывшие американские ветераны дружат и с бывшими вьетнамскими ветеранами, и с нашими, ибо понимают необходимость мира.
В шестидесятых я подружился с крупнейшими американскими писателями – Джоном Стейнбеком, Гаррисоном Солсбери, Вильямом Стайроном, Джоном Апдайком, Эдвардом Олби. Наше поколение и я, в частности, многому у них научились. Парадоксально, но во время «холодной войны» у нас с ними были очень близкие отношения, и мы встречались каждый год то в СССР, то в США. Сейчас эти встречи полностью прекратились – и в связи с плачевным положением раздробленных союзов писателей, и в связи с упадком общественно-политического престижа самих писателей. Писатели сами во многом виноваты.
В моей поэзии протестный дух появился гораздо раньше иностранных поездок – в 1955 году я написал «Границы мне мешают. Мне неловко не знать Буенос-Айреса, Нью-Йорка. Хочу шататься, сколько надо, Лондоном, со всеми говорить – пускай на ломаном». У нас же не было никакого туризма – ни к нам не ездили, ни мы к ним. Советский Союз был закрытой страной. Разве вот что фестиваль молодежи в 1957 году… Я счастлив, что превратил то раннее стихотворение в реальность, став народным депутатом, много раз выступая против унижавших достоинство наших людей «выездных комиссий», проверявших наших людей на лояльность – пускать их за границу или не пускать.
Как-то ко мне приехал Роберт Фрост, я принимал его у себя дома. Это была моя первая крошечная квартирка – две комнатки-крохотулечки по 12 метров – около «Сокола» на Красноармейской. Роберт Фрост сказал, что хотел бы увидеться с Хрущёвым. В это трудно поверить, но я позвонил тут же в справочную, там мне дали телефон справочной ЦК, и я позвонил кому-то в ЦК и сказал, что у меня в гостях крупный американский писатель Роберт Фрост и он хочет встретиться с Хрущёвым. Уже через полчаса у меня раздался звонок от помощника Хрущёва, а на следующий день Фрост вылетел на встречу с Хрущёвым, который где-то тогда отдыхал.
– Как тогда относилась власть к писателям?
– Наше правительство побаивалось их. Это была высшая оценка.
– А как же тогда окрик Хрущёва на Вознесенского: «Убирайтесь вон из Советского Союза, господин Вознесенский!»
– Он кричал только когда Вознесенский стоял на кремлёвской трибуне затылком к нему и был как бы символом чего-то незнакомого, чуждого, но когда он повернулся лицом с дрожащими губами, белым от волнения, Хрущёв перестал видеть в нём врага, умерил свой пыл и сунул ему руку: «Ну, идите, работайте».
У этой истории есть та загадка, о которой мало кто писал. Почему вдруг в здании Манежа появилась открытая не для всех, а только для членов политбюро выставка так называемых абстракционистов? Почему скульптуры и холсты свозили даже в последнюю ночь перед выставкой? Дело в том, что Хрущёв дал задание секретарю ЦК по идеологии Ильичёву в кратчайшие сроки написать постановление ЦК и правительства об отмене цензуры в СССР. Что послужило поводом? А вот и разгадка.
Сразу же после выноса Сталина из мавзолея я написал стихотворение «Наследники Сталина». Когда я их прочёл, несмотря на то, что они были отвергнуты многими редакциями, в одном московском театре человек с полсотни, громко хлопая стульями, вышли в знак протеста. То же самое случилось в США, когда я читал протестные стихи о войне во Вьетнаме в Мэдисон Сквер Гардене. Кстати, привилегию читать свои неопубликованные стихотворения, не спрашивая ни у кого разрешения, ввёл я. До этого никто даже не догадывался, что так можно.
Когда я полубезнадёжно предложил опубликовать стихи в «Новом мире», Твардовский сказал с мрачной иронией: «Вы что, хотите, чтобы журнал закрыли? Эти ваши стихи всё равно никто не напечатает. Мой вам совет: идите и спрячьте их куда-нибудь подальше». Я пытался объяснить ему, что идеология и стиль – это разные вещи… Я продолжал везде читать это стихотворение, и председатель Союза писателей Соболев назвал его антисоветским.
Но у меня был человек, который очень любил меня. Это Валерий Алексеевич Косолапов, он напечатал «Бабий Яр», когда был главным редактором «Литературной газеты». Помню, как он вызвал в редакцию свою жену, чтобы принять решение – печатать или не печатать «Бабий Яр». Он так объяснил мне это: «Это должно быть семейное решение. Ведь завтра меня снимут». Пока они с женой читали, я ждал в коридоре. Когда они вышли из кабинета, я увидел, что глаза жены редактора «на мокром месте». «Не волнуйтесь, Женя, – сказала мне жена Косолапова.– Мы решили быть уволенными». Косолапова тогда вскоре действительно уволили. Но и в этот момент новой опалы Косолапов дал мне телефон помощника Хрущёва Владимира Семеновича Лебедева: «Только он сможет помочь тебе».
– Какие дворцовые интриги!
– А что вы хотите, ведь это была империя! Как иначе было поступать? Кругом – цензура. Мою песню «Хотят ли русские войны» политуправление армии не разрешало исполнять по радио. Военные считали, что она деморализует армию. Только благодаря вмешательству тогдашнего министра культуры Фурцевой запрет сняли.
– Такие запреты появлялись во времена оттепели?
– Она была очень короткой, эта оттепель. Она шла волнами – то оттепель, то заморозки, то ещё что-нибудь. Хрущёв был разный. Черчилль про него очень хорошо сказал: «Хрущёв хотел перепрыгнуть пропасть в два прыжка». Частично в душе он ненавидел Сталина, но в какой-то мере и сам был сталинистом – он же принимал участие в чистках, сделал в то время карьеру. Он колебался. На него напирали со всех сторон. Его поведение было неудивительно для человека с такой карьерой. Но я всё прощаю ему только за одно – он выпустил стольких невинных людей из тюрем.
– Можно вспомнить добрым словом и «хрущёвки», которые дали миллионам людей возможность хоть чуть-чуть пожить нормально.
– Да! Сейчас над ними смеются, а в сталинские времена для людей вообще ничего не строили. Хрущёв хоть задумался над этой проблемой. У него были муки совести.
Так вот, когда я пришёл к его помощнику Лебедеву, то выяснилось, что мой дед, Рудольф Вильгельмович Гангнус, арестованный в 1937 году якобы за шпионаж в пользу его родной Латвии, преподавал ему математику перед войной. Мне сам Лебедев рассказал об этом: «Замечательный был человек. Его, арестованного, привозили к нам в школу НКВД, чтобы он нас учил. Мы его все любили». Лебедев добавил: «Вам очень повезло с дедом. Я когда читал ваши стихи, то всегда думал, как много у внука от его деда».
Я дал прочитать ему «Наследников Сталина». Он сделал замечание: «Евгений Александрович, вот тут у вас есть слово «Родина», замените его на «партия». Иначе стихи напечатать, боюсь, будет невозможно». Я-то, честно говоря, думал, что напечатать будет всё равно невозможно! Попросил также добавить хотя бы четверостишие про первые пятилетки. Затем он взял мои стихи с поправками и пообещал, что покажет их Хрущёву в подходящий момент.
Я уехал на Кубу, и тут разразился Карибский кризис. Над островом на бреющем полёте пролетали американские самолеты. На переговоры с Кастро приехал Микоян. Самое смешное, что он меня стал знакомить с Фиделем, хотя мы же были с ним знакомы.
«А вот, – сказал Микоян, – наш поэт Евтушенко, и вот в позавчерашней «Правде» его стихи напечатаны», и показывает «Правду» с «Наследниками Сталина» на первой полосе.
Уже потом Лебедев рассказал мне, что случилось. Хрущёв приехал в какой-то абхазский колхоз, и председатель стал рассказывать ему о зверствах чекистов – как они арестовывали людей, как они пытали, убивали. Причём убивали не только интеллигенцию, но и простых крестьян, обвинив их в чём угодно. И в какой-то момент Хрущёв не выдержал, слезы покатились из его глаз, и он по своей всегдашней привычке стукнул кулаком по столу: «Мы недоразоблачили Сталина». Тут Лебедев и достал из кармана моё стихотворение и прочитал его. «Немедленно в Москву! Военным самолётом в Москву! Напечатать в «Правде»!» – приказал Хрущёв.
После того, как стихи были напечатаны, группа крупных партийных чиновников из ЦК, не зная, что это было прямое указание Хрущёва, написали ему письмо с требованием отставки главного редактора «Правды» Сатикова. Когда Хрущёв вернулся из отпуска, то он на первом же заседании произнёс громовую речь: «Это что же получается? Значит, и я антисоветчик?! Мы перед нашим народом виноваты – скольких людей невинных мы погубили во время коллективизации, перед войной… А наш народ не стал мстить своему правительству, а встал грудью на защиту своей родины в войну. Так какого чёрта мы цензуруем свой народ? Цензура устарела. Товарищ Ильичёв, немедленно подготовьте постановление: «В связи с выросшей сознательностью народа партия и правительство считают, что институт цензуры – это анахронизм». Говорят, что в устах Хрущёва это прозвучало, как «анахренизм». С моей точки зрения, получилось образно.
Когда Хрущёв дал это задание для разработки, то некоторые люди вроде Ильичёва и Суслова поняли, что если цензура будет отменена, то им, идеологам, делать будет нечего. Тогда они придумали хитроумную уловку: решили пригласить Хрущёва на выставку абстракционистов в Манеже. Как Хрущёв повел себя на этой выставке, общеизвестно, но он среагировал как обыкновенный человек, который никогда ничего подобного не видел и поэтому даже такого легендарного бабника, как Эрнст Неизвестный, назвал «пидарасом», на что тот ответил весьма лихо: «А вот давайте выстроим одну за другой шеренгу баб и посоревнуемся с вами, Никита Сергеевич». Тому, как ни странно, понравилось то, что Неизвестный не спасовал перед ним. Хрущёв почувствовал могучего мужика. В какой-то степени была чисто русская логика в том, что семья Хрущёва попросила сделать памятник Никите Сергеевичу именно Эрнста.
– В перестроечном «Огоньке» вы вели антологию русской поэзии ХХ века. Всё из задуманного удалось сделать?
– В той антологии я реабилитировал 40 поэтов, которые никогда до этого в России не печатались. Потом на основе её вышла книга «Строфы века». Помню, как за эту антологию многие нападали на Коротича, называли его конъюнктурщиком. Знали бы вы, какую невероятную смелость проявлял он!
– Насколько известно, его очень хорошо поддерживали Горбачёв и Яковлев.
– Да, поддерживали. Но в том же ЦК у него были враги.
– Почему он уехал во время августовского путча?
– Он уже был в то время за границей. Приехавший на баррикады Ростропович был ограждён американским паспортом, а вот Коротича тут же бы арестовали. Слава Богу, что этого не случилось. Потом, когда он вернулся, его обвинили в трусости, отобрали у него журнал, в общем, некрасиво поступили по отношению к нему.
– Вы сказали, что советское правительство побаивалось писателей. Сейчас в России власть, кажется, не боится ничего, даже выборов, не говоря уж о писателях. Насколько эта тенденция носит российский характер?
– Писатели выключены из общественного движения не только в России. Появилась новая власть – телевидение. Появления писателей по телевидению стали редкими не только в России, но и во всём мире. Если сравнить в этом плане Россию и Америку, то у них ещё меньше.
– А на ваши лекции сотнями ходят.
– Кроме этого, я ещё выступаю в крупнейших залах Америки – «Карнеги-холл» был переполнен, когда я читал стихи, там исполнялась 13-я симфония Шостаковича на мои слова. И в крёмлевском дворце съездов я два раза провёл свои вечера при полных залах, а там 6500 мест. Кстати, согласно опросу, около 70 процентов было до 25 лет. Вот и сейчас, 18 июля в семь вечера в Политехническом музее пройдет 11-й вечер, празднующий мою сто десятую книгу в России. Руководство Политехнического подписало со мной контракт на 25 лет. Ещё осталось провести 14 вечеров. Я всегда был честным человеком и выполнял контракты.
– Вам не кажется, что сегодня власть захватила попса – она в музыке, в литературе, в политике?
– Совершенно верно. С этим надо бороться. Только вот не надо во всём обвинять попсу. Писатели сами во многом виноваты.
– В чём? Пишут не так?
– В том, что они, несмотря на разные политические взгляды, не могут организовать настоящий писательский союз.
– А он так им нужен?
– Обязательно. Он должен защищать писательские права.
– Скажите, похожие союзы есть на Западе?
– Нет. Но во всех приличных странах развитие литературы субсидируется государством. Во всех странах существует определённая система поддержки переводов.
В Америке на культуру из бюджета выделяется ничтожное количество денег, но там очень много частных фондов. У них есть законы, по которым бизнесменам предоставляется скидка при налогообложении, если они финансируют культурные фонды. У нас поддержка культуры не поощряется государством.
– Как вы думаете, стала бы «Единая Россия» помогать Пушкину, если бы он писал оды про свободу?
– Конечно, нет. Я не представляю, например, наших вице-спикеров Слиску и Жириновского в этой роли. Кстати говоря, Слиска, представляя наш парламент во время недавней поездки в США, позволила себе недопустимую национальную бестактность, назвав Грузию «какой-то малозначительной губернией». Не все, но многие члены нашего парламента не сдали бы экзамена хотя бы по минимуму интеллигентности. Вы не обратили внимания на то, что в нынешнем парламенте не оказалось сейчас ни одного писателя?
– Вы думаете, что в России что-то изменилось, и государство не контролирует идеологические процессы?
– С моей точки зрения, вообще не должно быть никакой государственной идеологии. Должны быть человеческие идеалы. Идеал демократии в том, что государство помогает литературе, но не вмешивается в её процесс.
– Какое же государство позволит за свой счёт издавать книги писателей, которые будут говорить в своих книгах всё, что они думают про это государство, да ещё и критиковать его?
– Конечно, власть будет обижаться и стараться не поддерживать таких писателей. Но это будет ошибкой. Что-то похожее на то, о чём вы говорите, происходит во многих странах, например, в Норвегии или Швеции. Американское государство, кстати, в отношении к культуре не является идеалом. Но там есть крупные частные фонды, и они ведут себя достаточно независимо от власти.
– Неужели писателям так необходима помощь государства?
– Раньше были государственные филармонии, в них был замечательный цех мастеров художественного слова. Они ездили с выступлениями по заводам, предприятиям. Это не было финансово выгодно, но мы же платили государству налоги, а оно за эти же деньги финансировало их.
– Помнится, было ещё и бюро пропаганды советского кино.
– Совершенно верно, было. Только вот название плохое – пропаганда. Было ещё и бюро пропаганды литературы, в котором работали писательские вдовы, очень милые энтузиасты. Нам, молодым поэтам, в сталинские времена жилось очень плохо, и вот эти энтузиасты устраивали нам разные выступления в красных уголках на заводах. Платили нам за эти выступления не так много, но это были хоть какие-то деньги, мы на них жили-выживали. Сейчас у писателей совершенно свободное плавание, да только без всяких причалов, где их ждут. Нет ни одной организации, которая занималась бы устройством встреч с писателями. В Америке, кстати, только крупных литературных агентств почти тридцать, не считая мелких. Я уже писал свои предложения об этом на имя Ельцина и на имя Путина, когда он был премьер-министром.
В каждом американском уважающем себя университете есть должность «университетский писатель», эта должность штатная. Писатель получает чуть больше профессора. Он занимается тем, что берёт на себя ведение литературного объединения, потому что пишущие люди есть везде.
– Так это же тот самый Гайдар, которого, судя по вашим мемуарам, вы «качали на ноге на Кубе», сказал, что «рынок всё расставит по своим местам». Вот и расставил.
– Это неправда! Нужно рынок поставить на место. В конце концов, существуют вещи, которые дают не учитываемую экономически, но нравственную и моральную прибыль государству. Габриэль Гарсия Маркес – сын маленькой страны Колумбии, но, простите меня, он – главная гордость Колумбии. У Чили есть Пабло Неруда. А что есть сегодня у России?
– Но ведь и Пушкин, и Моцарт тоже писали в рыночное время.
– Тогда было совсем другое время.
– Но они жили на то, что продавали свои ноты и стихи.
– Пушкин был первым поэтом, который начал зарабатывать стихами, он же продавал свои книги. Но кто тогда был читателем? Девяносто процентов населения России было неграмотным.
У нас есть сегодня интерес к поэзии, и вот что радует. В прошлом году я ездил на Кузбасс. На вечер приходили семьями, сидели в ряду по росту – от старшего до младшего. Конечно, это радует. Но это значит, что надо уметь хорошо читать стихи. Существуют хорошие стихи для чтения и в небольшой аудитории. Их тоже нельзя обижать. Я всегда стремился быть понятным людям всех профессий. Я хотел, чтобы мои стихи читали и крестьяне, и таксисты, и работяги, и учёные. Так и получилось.
– Лев Анненский верно написал про вас: «Евтушенко полюбил эпоху, а эпоха полюбила его». Но зачем вы написали «Автобиографию», публикация которой во Франции принесла вам столько неприятностей на родине?
– Я писал то, что думал. Ничего оскорбительного для своей родины в ней я не написал. Если её сейчас перечитать, то можно столько наивного найти.
– Вы также наивно писали: «Я думаю о революции и о большой любви»?
– Я был влюблён в то, что писал. Я был искренен.
– Всегда? Даже когда писали злободневные поделки про жалобные книги и тараканов?
– Что же тут неискреннего? Я – профессиональный поэт и много разного писал – и любовные стихи, и сатирические. Кстати, стихи про тараканов переведены на многие языки, вошли в антологию мировой сатиры. Там есть смешные строчки: «Вся цыганщина, ресторанщина, весь набор про сердца на снегах – это липкая тараканщина с микрофонами в лапках-руках». Это же первые в нашей поэзии стихи, написанные, по-моему, ещё в ранних семидесятых против той самой дешёвой попсы, которая сегодня тараканами расползлась по всем эстрадам.
– Вы так же искренне посвящали стихи про Блока Илье Глазунову, а потом так же искренне убрали это посвящение?
– Абсолютно верно. Он больше не заслуживал этого посвящения, потому что он поступил некрасиво по отношению к своим коллегам-художникам. Когда их били и называли абстракционистами, хотя многие из них таковыми не были, то он добавил, написав статью против них. А лежачего не бьют! Вот если бы они получали государственные премии, и он выступил против этого, тогда другое дело. У него мне очень нравился и Блок, и Ксюша Некрасова, – вообще его чёрно-белые работы.
– Вот, видите, какие творческие люди! А вы чего-то говорите про объединение, про союзы!
– Объединяться надо, чтобы бороться за свои права. Пока получается, что один Союз писателей вхож в правительство и просит там помочь ему, при этом говоря, что истинные патриоты именно в нём, а в другом союзе – не истинные. Вот это позорище! Там ведь, куда ходят эти истинные писатели, сидят равнодушные люди, и они только потирают руки, когда видят это.
– Вы давно были около памятника Маяковскому?
– Очень часто там бываю, даже свидания там назначаю.
– Не смущает, что теперь около него не стихи читают, а пиво пьют?
– Это сейчас везде происходит. В ресторан ходить дорого, вот и сидят на бульварах с ногами на скамейках и пьют пиво. Ребятам просто некуда пойти, у нас так мало молодёжных клубов. Молодёжи некуда деться. Об этом никто не думает, а все эти искусственно создаваемые организации типа «Наши» я считаю просто использованием молодёжи. Надо думать о ней, а не зомбировать её.
Я уверен, что те молодые, кто сегодня надевает на себя свастики и тусуется в день рождения Гитлера, делают это не потому, что они серьёзные фашисты, а от скуки. Скука – мать фашизма.
– Только она?
– Скука тоже. Энергии много, и надо её куда-то девать. Поэтому протест и принимает такие уродливые формы.
Но я не думаю, что наша молодёжь такая безнадёжная. Ею просто никто не занимается. Её просто стараются использовать, а не думают о ней. Молодые не знают по-настоящему ни истории, ни литературы. Нам нужно поднимать образование, а не насиловать его.
– Выражаясь языком современной молодёжи, вас можно назвать «продвинутым». Оказалось, что вы выпускаете видеокассеты, которые используют учителя на уроках литературы.
– Ничего я не выпускаю. Это делают сами учителя. Когда-то Ирена Лесневская сделала для нашей поэзии великую вещь – она профинансировала 108 передач о русской поэзии, которые вёл я. Их долгое время бойкотировали некоторые каналы, а потом дали премию «Тэфи». Насколько я знаю, их переписывали прямо с телевизора и теперь используют в Америке, в Израиле, даже в Австралии. Мои последние передачи, согласно рейтингам, посмотрело пять миллионов человек.
Слышал, что Лесневская продаёт свои акции Ren-TV и хочу через вашу газету обратиться к ней. Дорогая Ирена Стефановна! Я очень хотел бы получить себе пусть не все, но хотя бы самые лучшие свои передачи. Я могу договориться с министерством образования, чтобы их распространяли по стране. Пожалуйста, передайте мне эти кассеты!
– Евгений Александрович, кроме желаний, есть права собственности.
– Какие права собственности?! О чём вы! Я знаю – она так любит поэзию. Когда у Окуджавы не было денег, она ему машину подарила.
– А что это у вас за идея – выступить с чтением стихов в храме?
– Это моя идея фикс. Сама Библия – это великая поэтическая книга. Я уже читал свои стихи во всех церквях, которые можно себе вообразить – и в православных храмах Болгарии и Греции, там это никого не шокировало. Я читал свои стихи и в синагогах.
– А в мечети?
– Один раз в Турции. Да ещё откуда! С самого минарета! Мулле потом, конечно, нагорело – его сняли, но зато он прославился.
– А как к вашей идее отнеслись в православной церкви?
– Я обратился с этим предложением к высшим чинам нашей церкви, и мне предложили выступить в зале заседаний под храмом Христа Спасителя. А я хотел выступить там, где служба проходит. Мне говорят: «Там же нет скамеек». Ничего, постоят, говорю. В вашингтонском кафедральном соборе скамейки наоборот убрали, чтобы больше народу вместилось, и полтора часа люди стояли и слушали мои стихи.
Мне говорят, что не было прецедента. А у Иисуса Христа был прецедент? Я не сравниваю себя с Христом, но сколько в мире было хороших дел, которые стали традицией без всякого прецедента. Я не понимаю, почему русские поэты не могут читать свои стихи в православных храмах. Кстати, это было бы хорошо и для идей православия.
Вы просто не представляете, какая сейчас тяга к поэзии. Вот недавно я был в Иркутске, на станции Зима, там отреставрировали дом моего детства, как музей поэзии…
– Как? Уже?
– Так не я же его открыл.
– Побойтесь Бога, Евгений Александрович…
– Его люди сами открыли.
– И как вы в нём себя чувствовали?
– Нормально.
– Экскурсии проходят примерно так: «За этим столом Женя Евтушенко написал своё первое стихотворение». Или: «А вот за тем столом он написал другое стихотворение».
– А куда, скажите, потом всё это денется? Его земляки мои сделали и открыли. Когда мы уехали оттуда, дом – а это обыкновенная изба – стали постепенно растаскивать. Но земляки защитили мой дом.
– Поздравляю. Он, наверное, ещё и на бюджетном финансировании?
– Да, на бюджете Иркутской области. У музея замечательная директриса, она раньше занималась детьми. В музее часто проходят экскурсии. Как-то раз мне стали на неё жаловаться, что она сделала горку для того, чтобы дети катались. Так это же прекрасно, пусть себе катаются.
Когда я приехал на открытие музея, то в дверях меня встретил огромный букет цветов, за которым пряталась директриса, она очень маленького роста. И я расцеловал её через эти цветы. Она потом сказала мне: «А знаете, Евгений Александрович, вас можно внести в книгу рекордов Гиннеса… Даже Пушкин не открывал своего музея, да ещё и целуясь с его директором!»
Сейчас на станции Зима ежегодно проводятся сибирские фестивали поэзии. Первый фестиваль из Иркутского драмтеатра транслировался на всю Иркутскую область. А в ней – территория нескольких Франций! На вечере выступили американский, польский, два французских поэта, была и никарагуанская поэтесса. Мы много с ними ездили по области, там, где ни разу ещё не было ни одного иностранца.
– Как иркутчане понимали никарагуанскую поэзию?
– Они были в полном восторге, очень много аплодировали. Там был хороший переводчик, американского поэта я сам переводил.
– Какой подарок порадует вас в этом году на день рождения?
– У меня сейчас настоящий праздник – в России вышла сто десятая моя
Дата интервью: 2006-07-16