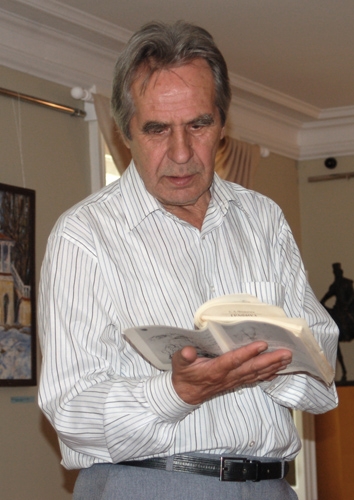Известный дирижер признался, что кончина Советского союза для него счастье. В интервью он рассказал о том, почему профессиональный музыкант в России получает в десять раз меньше, чем дворник, своей зависти верующим, и что у него не получится, как у Гергиева.
– Современная жизнь коммерциализировала литературу, театр, кино. А музыку?
– В меньше степени, чем другие виды искусства. Все-таки государство дает музыкантам гранты, платит – пусть смешную, но все же платит – зарплату. Гранты касаются в основном Москвы и Петербурга. Недавно у меня был дирижер из вятской филармонии. Я спросил: сколько получают его музыканты? Оказалось, четыре тысячи рублей. Такие деньги получают люди, которые погубили свое детство, учились играть с пяти-шести лет, потом десять лет в училище, потом получали высшее образование. И после этого они получают четыре тысячи. Поэтому, даже не спрашивайте меня в каком положении находится музыкальное искусство?
– Не буду. Но почему – «погубили молодость»?
– За редчайшим исключением, нормальные дети хотят играть в футбол вместе с приятелями, а не учиться играть. Их заставляют заниматься. Они лишены детских радостей, которые имеют нормальные дети. Училище, консерватория – все это труд.
– А как же служенье муз?
– Это уместно, когда ты служишь музыке, а когда ты получаешь четыре тысячи рублей, то такого служения я не могу себе представить.
Об этом даже стыдно говорить. Это происходит в стране, которую знают в мире в основном не потому что мы что-то умеем делать, а делать мы ничего не умеем – ни машины, ни одежду, ничего, – нас знают только потому что у нас были Пушкин, Чайковский, Чехов, Мусоргский, Шостакович, Прокофьев, Достоевский, Толстой. К нам только поэтому относятся с уважением. Культура России вызывает восхищение в мире. Если сегодня где-нибудь на Западе я буду рассказывать, что музыканты в провинции получают четыре тысячи рублей, мне не поверят. Они подумают, что я выступаю против Путина и Медведева.
– При старом режиме музыканты получали больше?
– Десятикратно больше. Понимаете, нельзя построить культуру, у которой нет фундамента. В Москве и Петербурге дела в культуре обстоят более или менее прилично, благодаря поддержке правительства, но если говорить серьезно, то фундамента нет.
– Когда вы общаетесь с первыми лицами, говорите об этом или деликатно молчите?
– Может, не очень прилично говорить, но благодаря мне, пять коллективов страны получили президентские гранты. Значит, я об этом говорю. Но просить за всю страну….
– Как вы думаете, они понимают значение Филармонии или эта помощь для них просто пиар?
– Наверное, и то, и другое.
– Тогда почему вам помогли, а в Вятской филармонии коллеги получают четыре тысячи?
– Может быть, они этого не знают. Я уверен, что они этого не знают. Им было бы стыдно, если бы узнали что профессиональный музыкант в провинциальном оркестре получает так мало. В десять раз меньше, чем дворник. Я ничего не имею против дворников, и не говорю, что их работа никчемная, но разница все-таки есть. Правда, есть же разница?
Вообще, моя идеалистическая убежденность состоит в том, что без культуры ни у страны, ни у народа нет будущего. Особенно это имеет отношение к России. И я не только о музыке говорю.
Вот, например, во всех странах беспокоятся о спорте, везде есть футбольные болельщики. Нужно это? Нужно. Но есть разница. После концерта духовной музыки, после прочитанной книги никто не выходит бить друг друга, а после футбола бьют. Поп-музыка – это культура подворотни, а общество помогает ее распространению – попса в телевизоре с утра до ночи.
– Попса еще ладно…
– Не ладно. Она будит в человеке инстинкты, которые нормальный человек прячет.
– А блатные песни вас не пугают?
– Так я же об этом и говорю – про отсутствие культуры. Без нее ни у одного народа нет будущего. Не будет ни машин, ни хороших костюмов, ни сельского хозяйства.
– В декабре исполняется двадцать лет, как перестал существовать СССР. Михаил Жванецкий горько пошутил недавно: «Как жаль, что самым большим взлетом нашего народа был Советский союз». Что вы думаете сегодня о том времени?
– Вот я сейчас ругал эту власть, но должен сказать, что в моей судьбе самое важное то, что я дожил до того, что Советский союз рухнул. Это самое большое счастье в моей жизни.
Мы стали людьми, перестали быть рабами. Да, что-то плохо, нетерпимо, что музыканты получают четыре тысячи, плохие судьи, отвратительная полиция, ее народ боится больше, чем бандитов. Все у нас как-то по-российски, ничего не можем сделать по-человечески, но, в конце концов, самое большое счастье, что коммунизм рухнул, и мы стали людьми.
– Простите, Юрий Хатуевич, но именно при той власти вы получили все звания и регалии…
– Это ничего не значит. Это похоронные принадлежности. Получая все эти высокие награды, мне было отвратительно ходить на заседания выездной комиссии, где сидели пенсионеры, и решали – дать мне разрешение на выезд за границу или нет?
– Как? Вы ходили на них, как все советские люди?
– И Ойстрах ходил, и Рихтер, и Гилельс… У нас отбирали все деньги, которые мы зарабатывали. Я называл это «налогом за любовь к родине».
Но дело даже не в деньгах. Ты все время был рабом, не мог сказать то, что думаешь. Вот сейчас мы сидим с вами, беседуем, и я говорю вам то, что думаю. В советские времена я не сказал бы вам то, что думаю, а сказал бы, что нужно. Значит, я был недочеловеком, а сейчас – гражданин. Я знаю, что могу уехать за границу, и вернуться, или совсем уехать, и никто мне не скажет, что я предал родину. Только бандитская власть может решать, какой ширины брюки носить человеку, и какой длины могут быть у него волосы. Мы жили по законам тюремной морали.
Все ли прекрасно сейчас? Конечно, нет, но это стократно лучше, чем быть рабом.
– Сегодня уже привыкли к тому, что музыканты могут уезжать из страны, и работать на западе. Кто-то порадуется за человека, но у большинства все равно нет-нет, да и мелькнет мысль по-старинке: «Вот предатель».
– Я так не думаю. Я думаю, что мы, те кто живет в нашей стране, поневоле виноваты в том, что они уезжают. Мы все виноваты.
– Современная интеллигенция разделена: одна часть поддерживает власть, другая ругает ее – за антинародность, Ходорковского…
– И правильно делает.
– …Но вы ни с теми и ни другими. Разве так можно?
– Я стараюсь быть там, где правда.
– Те, кто хвалит власть, как ни странно, считают, что хвалят ее искренне.
– А кто хвалит? Я хвалю. Потому что выполнили одну мою просьбу, вторую, третью. Но я же не хвалю за то, что музыканты получают четыре тысячи рублей. Я говорю, что это бесстыдно.
Самое свинское качество в человеке – быть неблагодарным. Я благодарен за все то, что делается хорошего, и имею право говорить о том, что мне не нравится.
– У вас такой большой круг общения, и среди ваших друзей был Андрей Миронов. Что вас связывало?
– Дружбу нельзя относить к профессии, или к чему-то объяснимому. Дружба это какая-то химия между людьми.
– Но он не был музыкантом.
– А я с музыкантами мало дружу.
– Почему?
– Не знаю, так получается.
– Может, потому, что знаете о них больше, чем публика?
– Те, кто думает, что много знают, дураки. Люди, которые все знают, страшные люди. Правда, есть еще страшнее. История показала, что это те, кто хочет облагодетельствовать все человечество. Это самые большие преступники. Все, что идет от них, ведет к катастрофе. Даже от религии. Крестоносцы убивали миллионы людей, инквизиция убивала миллионы, в России сжигали раскольников. В исламских странах до сих пор людей зарывают живыми.
– Вы верующий?
– Нет.
– Атеист?
– Не стопроцентный, а стопятидесятипроцентный. Несмотря на то, что наше правительство верующее. Сейчас все крестятся, потому что начальство крестится. Для меня это комично.
– Неужели, когда вы проходите мимо Спаса на крови у вас не возникает эмоций?
– Как нет? Конечно, есть. У нас рядом с консерваторией стоит Никольская церковь, и я всегда в нее ходил, там очень хорошая атмосфера. Такой росписи, как в Спасе на крови нет ни в одной церкви мира. Я восхищаюсь.
– Но это же религиозная архитектура.
– Для меня нет. У меня вызывает восхищение другое – вот что может сделать разум и дух человека!
Кстати, страшно жалею, что я неверующий.
– Почему?
– Страшно.
– Чего же вы боитесь? Страшного суда?
– Нет, судить никого не будут. Понимаете, с верой жить проще. Вера дает надежду. Поэтому я очень завидую верующим. Это правда. Я искренне говорю.
– Так может, попробовать?
– Вряд ли получится. Я не только музыкой интересуюсь.
– А чем еще?
– Космосом. Большим взрывом. Представьте, как расходится мир, расширяется галактика. Когда она сойдется? Когда закончится? Что такое время? Это не то, что на часах. Есть ли вообще время, или его придумали мы, чтобы отмечать происходящие события? Есть ли время в космосе? Есть ли другое измерение, не время?
– И как, по-вашему, есть у галактики предел?
– Она не может кончиться. Она бесконечна, хотя бы потому, что этому нет альтернативы.
– Но может ли понять эту бесконечность человеческий разум?
– Не сможет. Потому что жизнь человека «дар напрасный, дар случайный…». Появление человека случайность, стечение невероятных обстоятельств. Галактика тоже создавалась случайно.
Никто же не спорит с тем, что солнце потухнет. В эти знания науки религия не помещается.
– Как же тогда Достоевский с его мыслью «Если Бога нет, то все можно»?
– Поэтому я и разделяю мораль и религию. Мораль была еще до возникновения религии. Именно этим мы и отличаемся от животных, не только тем, что мы немножечко умнее.
– Например, не едим друг друга.
– Но ведь ели! А если бог создал человека по своему образу и подобию, то это было бы невозможно. Чикатило тоже создан по образу и подобию?
– Сокуров после премьеры Фауста тоже логично объяснил почему церковь боится дьявола.
– Его возникновение было логично. В мире нет ничего без противоположного, всегда есть теза и антитеза.
– Как культура и антикультура…
– Совершенно верно. Есть плюс и есть минус. Есть черные дыры, которые все всасывают, потом взрываются и получаются галактики. Потом случайно появляются существа, они есть в других галактиках, не только в нашей.
– Но музыка все-таки не химия и не физика…
– Это душа. Единственное, что нас отличает от животных – это духовность.
– А музыка все-таки имеет божественное начало?
– Нет, она человеческая. Мы называем ее «божественной» так же, как говорим «дай бог».
– Неужели Чайковский писал Шестую симфонию благодаря химическому веществу в мозге?
– Он писал ее душой. Музыка не имеет отношения к материи. Она имеет отношение только к духу.
– Вы уже столько лет занимаетесь музыкой. Скажите, вы поняли природу ее появления или это осталось для вас тайной?
– Мне кажется, что музыка появилась еще до возникновения языка. Когда мать укладывала ребенка спать, то она что-то «напевала», природа вложила в женщину такое отношение к ребенку.
– Значит, понимая что откуда возникает, вам бывает скучно за пультом?
– Что вы! Для меня открывается совершенно другой мир. Если у человека пять чувств, то у меня их шесть, потому что я знаю музыку.
– Вы еще с конца семидесятых стали приглашенным дирижером – сначала в Филадельфийском оркестре, потом в Лондонском. В России такая практика не очень распространена. Почему?
– Это нормально во всем мире. У нас раньше это было запрещено.
– Вы были еще единственным дирижером оркестра, избранным музыкантами…
– Это моя вторая гордость.
– Это была дань моде на перестройку?
– Нет, это был единственный случай, когда обком партии в надежде, что меня не изберут, дал такую возможность оркестру. Меня не хотели назначать, и тогда они придумали: «Маэстро, мы хотели бы вас назначить, но народ не хочет». А народ тайным голосованием выбрал меня.
– В своих интервью вы часто ругаете музыкантов, дескать, в стране не остается профессионалов. Может, виноваты не они, а состояние профессии в стране?
– Уезжают педагоги и солисты. Россия очень богатая талантами страна, так что, в принципе, завтра-послезавтра мы опять наберем. Тут есть другая опасность. Во всех видах искусства важна передача традиций школы. Из-за отъезда педагогов, стали преподавать те, кто этих традиций не получил – они не умеют, не научились учить. Поэтому сейчас мало музыкантов, многие уезжают. Петербургская консерватория находится в крахе.
– Судя по миллионам, освоенным на ремонте, не скажешь.
– Я не про здание, а о том, что в нем. Консерватория практически рухнула.
– И надежды, что что-то изменится нет?
– Есть. Если государство вмешается. Оно должно вмешаться.
– Как?
– Назначить ректора. Но поскольку у нас сейчас демократия: «Вот пусть народ сам изберет».
Вся история человечества подтверждает, что хорошо организуются плохие люди. Вот там сейчас это и происходит, хотя юридически все правильно, а на самом деле?
– Вроде культурные люди…
– Да какие культурные? Они там коммуналку устроили. Интеллигентные люди коммуналок не устраивают.
– В культурной жизни Петербурга Филармония занимает одно из первых мест. Как это у вас получается?
– Мы просто работаем.
– Так просто?
– Все гораздо проще, чем думается. Надо просто работать, собирать достойных людей вокруг себя.
– Вы выбираете музыкантов?
– Очень выбираю. Причем, как не смешно это покажется, но я смотрю не только на то, как играет человек, а еще и в его глаза. Если он похож на человека, то я предпочту его другому, который, может, играет лучше. Потому что, в конце концов, у нехорошего человека инструмент некрасиво звучит. Наверное, то что я сказал, на уровне глупости, но это правда.
– Как дирижер, вы – диктатор?
– Диктаторские времена в профессии ушли.
– Читал, что Мравинский был очень жестким…
– Очень жестким. Но тогда были и Сталин, и Франко. Это было распространено. Все первые секретари были диктаторами. Это была не мода, а понимание общественной конструкции. Каждый маленький начальник был фюрером, а перед своим начальником он был еле-еле г..но.
Сегодня не так. В принципе, и дирижер, и главный режиссер, и главный балетмейстер должны быть первыми среди равных.
– И как вы общаетесь с музыкантами?
– Они все мои профессиональные друзья. Все. В оркестре важен каждый инструмент, даже если он во время концерта только раз ударит в большой барабан.Одним ударом можно испортить все, что делали остальные.
– Вы не тоскуете по тем временам, когда ставили оперы?
– Нет. Если бы у меня было желание поставить, то сделал бы.
– Пройденный этап?
– Можно и так сказать. Кроме того, постановка занимает много времени. Сейчас ставят за полмесяца, а я «Онегина», которого знали все, ставил год.
К сожалению, сейчас во всем мире стали ставить быстро. Музыкальный театр превращается в фабрику.
– Коммерциализация?
– У нас еще чуть-чуть осталось идеалистическое отношение к работе в отличие от запада
– Как вы относитесь к тому, что делает Гергиев?
– Очень хорошо.
– То, что он дирижирует в понедельник в Петербурге, в среду в Лондоне, в пятницу в Париже, в воскресенье в Нью-Йорке, и везде – гениально?
– Это он. Это его характер, его стиль. Это может нравится, может не нравится, но он такой. Все это не важно.
Если бы не Гергиев, то сейчас Кировский театр был бы в таком же положении, как и Большой. В плохом.
– Неужели при таком графике можно гениально дирижировать?
– Не знаю.
– А вас так получится?
– Нет.
– Вам не кажется странным, что при коммунистах активно пропагандировалась классическая музыка?
– Дело в том, что любой тоталитарный строй хочет показать свои достижения. Поэтому и поддерживали культуру. Все говорили, что «СССР – тюрьма», и вдруг на Запад приезжает Ойстрах. Величайший скрипач в мире. Это выдавалось за «достижение коммунизма». Рихтер тоже был «достижением коммунизма». Поэтому коммунисты поддерживали их, ради пропаганды, а не ради того, что это были великие музыканты. Помните, было замечательное двустишие: «Пришла весна. Настало лето…»
– «…Спасибо партии за это».
– Вот они и хвалили себя с утра до ночи. Но знаете, легко сказать – я не люблю коммунизм. Я люблю коммунизм, потому что это превосходная идея. Но мы же судим о строе не потому что начальники говорят. Мы судим по голоду, убиты миллионы, миллионам искорверкали судьбы.
Вы знаете, почему мы со своими компьютерами до сих пор в каменном веке? Потому что Сталин считал кибернетику лживым буржуазным еврейским изобретением. Также было и с генетикой, вейсманисты-морганисты…
Мне не нравится, что коммунисты сделали истории преждевременные роды. Время все поставило на свои места, оно не терпит, чтобы люди, – эти суетливые муравьи, – командовали им. Поэтому социализм сейчас в скандинавских странах, в Германии. В Советском союзе хотели, чтобы Монголия из средних веков, из степей сразу перебралась в социализм и Улан-Батор, а они не знали, что такое социализм.
На востоке до сих пор ходят в парандже, они живут в другом времени, им нужно постепенно приходить в завтра. Шахиншах открыл в Иране клубы, бары, концертный зал, стал приглашать симфонические оркестры. Народ посчитал это «противозаконным», и его уничтожили. Пришел Хомейни, и вернул народ к его счастью, его времени. Им это нравится.
Сейчас американцы делают ту же ошибку, хотят на востоке навязать демократию, а она еше не нужна. Может, станет нужна лет через двадцать, если не больше. Нельзя торопить и насиловать время. Все умные слишком стали, не хотят подчиняться времени. Оно само продиктует необходимость того или другого. Не Маркс с Лениным, а время. В Швеции не было революции, а социализм построили. Это время продиктовало: «Сейчас можно».
– Ваши коллеги любят поговорить о духовности нашего народа. Вы тоже?
– А ее нет. Еще любят поговорить о национальной идее. Ищут ее. Раньше была простая: кругом враги, а мы одни хорошие.
Национальная идея очень простая – сделать из стада по возможности интеллигентный народ. Вот и вся национальная идея.
– Почему после того, как столько лет народ приучивали к классической музыке, после песен Пахмутовой, самой популярной стала блатная песня?
– Это ближе народу. Он находится в такой стадии развития, и ускорить его нельзя.
– Но ведь советские песни были далеки от так называемого шансона.
– Дело в том, что советские песни были прекрасны, мы выросли с ними, кто-то воевал с ними четыре года с Германией. Но как говорил Гоголь: «Если разобраться по совести, то и достоинств всех было у него только одни густые брови». Это значит, когда все рухнуло, то мы поняли, что все что мы пели была ложь – от начала до конца.
– Но ведь была не только «Широка страна моя родная», но и «В землянке», «Темная ночь»…
– Были и хорошие песни, их поют. Но за семьдесят лет человек дичал, и пришел к тому к чему его привели – поет блатные песни.
Вы знаете, почему сегодня по телевидению столько звезд выступает? На небе столько звезд нет… Звездами становятся те, кто больше разденется. Это называется культура. Но это антикультура. Отсюда блатные песни.
– Эстраду тоже не любите?
– Я обожаю настоящий джаз, который делают профессионалы. Бывая на западе, всегда хожу в джазовые клубы.
– Вы не встречали на улице музыкантов, которые вас восхитили бы профессионализмом?
– Бывало. Сейчас в Европе на улицах играет много профессиональных музыкантов из России.
– На том месте, где ваш пульт, стоял Мравинский, Чайковский дирижировал Шестой симфонией… Вы помните об этом, выходя на сцену, или время стерло чувство трепета?
– Не стерло. Я захожу в Филармонию, как верующий заходит в церковь. Я почти ни разу не заходил сюда без галстука. Потому что это духовный храм для человека.
– У вас была идея сделать в Филармонии дворянское собрание, чтобы в нем собиралась элита.
– пока не получилось, но время еще есть.
– А кто эти новые дворяне?
– Ни в коем случае не дворяне. Меня не интересуют новоиспеченные «дворяне». Мне хочется соединить интеллигенцию Петербурга, все-таки она еще осталась. Лихачев был не последним интеллигентом. Идея собрать этот круг людей еще не погибла.
Дата интервью: 2011-11-04