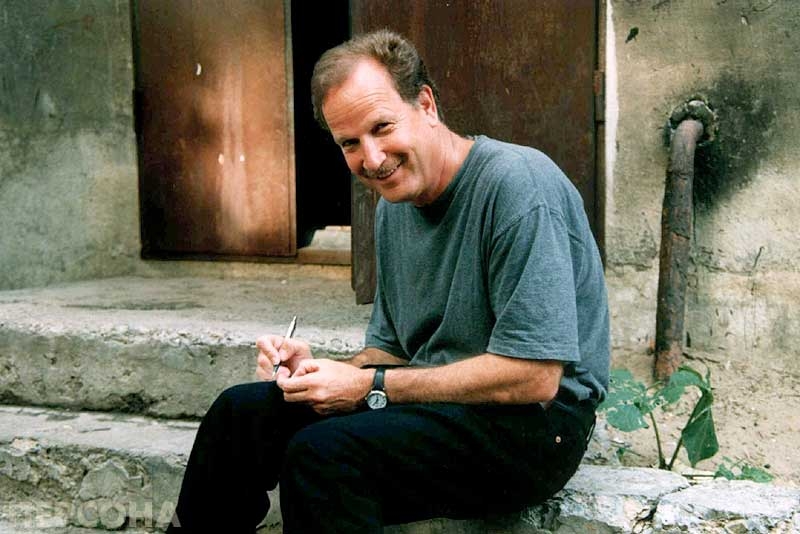Профессор истории, заведующий кафедрой истории и теории культуры Института повышения квалификации работников образования. Заслуженный деятель культуры РТ, заслуженный работник культуры ТАССР.
– Булат Файзрахманович, у Глазкова есть замечательные строчки: «Век двадцатый, век необычайный! Чем ты интереснее для историка, тем для современника печальнее». Как вы, историк, относитесь к современности?
– Мне очень нравятся те строчки Глазкова, которые вы процитировали. Но мне также нравятся слова Василия Ключевского: «Уроки истории сводятся к тому, что их никто не усваивает».
Я рад, что живу в это сложное время. Я прожил больше семидесяти лет – и только сейчас могу говорить и писать то, что думаю, в чём я убеждён. Такой возможности у меня раньше не было. Не хочу сказать, что раньше специально врал, но не был ни лениноведом, ни воспевателем КПСС, борьбы за коммунистический труд, ни буйным разоблачителем «загнивающего капитализма». Скорее всего, я был историком СССР, историком Отечества.
В прошлые времена, когда писали об истории Отечества, нужно было придерживаться определённых правил игры. Причём это касалось не только историков современности, даже археологи в начале любой своей книги вынуждены были ссылаться на решения какого-то съезда партии или её пленума. Когда я был секретарём парткома в пединституте, то в программе одной научной конференции вычеркнул фразу «Выращивание ранних парниковых огурцов в свете решения такого-то пленума ЦК КПСС». Когда меня спросили, почему я это сделал, то объяснил это так: «Конечно, ЦК нужно уважать, но не до такой же степени».
Если вернуться к сегодняшнему времени, то его есть за что ругать. Но есть несколько вещей, которые являются достижением.
Не хочу заниматься казуистикой, но мы – гордые и суверенные – будем жить с Россией, рядом или вместе. Потому что мы часть российского культурного, исторического и экономического пространства…
– Простите, вы имеете в виду Татарию?
– Да, Татарстан. Нам, если мы говорим об истории, нужно внимательно присмотреться к нашей роли в этом российском пространстве. Сейчас я могу по этим вопросам говорить откровенно. Но в то же время я не признаю крайностей, ведь Татария – не родина слонов. Должен быть разумный подход. Ещё я не приемлю такого понятия, как национальная гордость.
– Почему?
– Гордиться нужно своими делами.
– Значит, прав был Шопенгауэр, говоря, что патриотизм – последнее прибежище негодяев?
– Нет, на мой взгляд, патриотизм должен присутствовать в нашем сознании. Но человек должен гордиться в первую очередь тем, что он сделал сам, а не стричь проценты с деяний предков.
Но приведу другие слова: «поскреби немножко русского – и получится татарин». Их приписывают и Ницше, и Наполеону. Но тут важно другое. Эта фраза определяет дуализм российского человека.
– В перестройку мы узнали, что в нашей истории существуют «белые пятна». Благодаря гласности мы стали узнавать неизвестные страницы своей истории. Но ведь доходит до смешного – появились историки, которые утверждают, что никакой Куликовской битвы вовсе не было.
– Такое бывает в любое смутное время, а наше время так можно назвать. Помнится, ещё Андропов, став Генсеком, в своей первой и единственной статье написал: «По-настоящему мы даже не знаем, как назвать то общество, в котором мы живём». Так что в любом смутном времени бывают крайности.
Но вот один пример для вас. История раньше была под большим надзором. Я и мой соавтор Литвин написали книжку для начальных классов «Рассказы о родном крае». Она издавалась до 1988 года, причём над нами посмеивались, что мы перегнали Ленина, так как у него было пять изданий, а нашу книгу переиздавали восемь раз. Но перед каждым переизданием мы посылали книгу в Москву, где проверяли каждую запятую. Таковы были условия советской цензуры.
Больше того. От меня требовали найти в Татарии пример, похожий на «подвиг» Павлика Морозова. Я нашёл что-то напоминавшее, только это была девочка. Но во втором издании убрал этот эпизод из книги. Потом нас спросили: «А нельзя ли представить взятие Казани Иваном Грозным как полудобровольное присоединение?» Вот на это мы уж не пошли.
Но что значит – переписывают историю? Может быть, речь идёт просто о том, что некоторые известные вещи русской истории, например такие, как существование в Золотой Орде процветающей православной епархии, замалчивались раньше, а теперь о них можно говорить. Правда, если раньше, как я уже говорил, проверяли каждую запятую, то теперь кто только не резвится на страницах истории! Хотя я считаю, что в истории не должно быть запретных тем.
Вот есть у нас такой специалист по татарскому синтаксису, академик Закиев. Он написал в одной из местных газет, что в восемнадцатом веке английские лейбористы свергли французскую монархию и начали преследование национальных меньшинств.
С другой стороны, есть такой московский академик Фоменко. Он с помощью компьютерных выкладок утверждал, что Иван Калита и Батый – одно и то же лицо, что Чингисхан и Юрий Долгорукий – также одно и то же лицо. Другой академик, тоже грамотный, ввиду ряда соображений я не буду называть его фамилии, написал, что ректором Московского университета был академик Лобачевский.
– Правду, как известно, говорить легко и приятно. Вам как историку тоже говорить её легко и приятно?
– Этой мой крест. Последние пятнадцать лет я занимаюсь кровавой историей, или тем, что называют «белыми пятнами» истории. Мне понравилось, как сказал патриарх Алексий: «В истории нет лишних страниц». Я видел документы, которые хотел бы забыть, особенно резолюции Сталина. Ещё я имею в виду показания и доносы 1937 года. Александр Яковлев, председатель Комиссии по реабилитации жертв незаконных репрессий, как-то сказал: «Из моего сознания уходят образы незапятнанных людей».
Понимаете, сложность тоталитарного общества в том, что жертвы и палачи мистически были связаны. Сегодня один разоблачал, завтра он же молил о пощаде в подвалах НКВД. Причём это касается не только политических деятелей, но и простых работников НКВД.
Я не могу «добру и злу внимать равнодушно». Раньше всё было проще: злой Сталин, негодяи из НКВД, невинные ленинцы. Но всё это не так. Человек намного сложнее. В 1940 году расстреляли бывшего наркома НКВД Татарии Михайлова и его заместителя Шелудченко. А это те самые люди, которые в 1937–1938 годах осуществляли весь террор в Татарии. На их руках, на их совести слишком много крови. Но в 40-м году их расстреляли как «нарушителей сталинских принципов заботы о людях».
Тот же Шелудченко писал в последнем письме: «Я же исполнял все ваши указания. Я избивал Султан-Галиева, которого разоблачил сам товарищ Сталин». Но режиму были нужны «козлы отпущения».
Я член редколлегии «Книги памяти». Мы выпустили двадцать томов «Жертв Отечественной войны». Сейчас мы начали подготовку томов «Жертвы политических репрессий». Не хочу ошеломлять вас цифрами, но одно скажу: мы выпустили только один том – на букву «А». На букву «А» число репрессированных составило 2700 человек, начиная с 1920 года и кончая 1953-м. После 1953-го тоже были репрессии, но они не носили такого массового характера. Хотя мы тоже будем их включать в книгу.
Я часто вспоминаю своего отца. Он был членом партии с 1918 года. Когда его исключили из партии, мама сказала ему: «Напиши товарищу Сталину. Ты же его знаешь. Да и на фотографии почти рядом стоишь». И отец ответил ей: «Вот ему-то писать я не буду. Не дай бог вспомнит». Тогда мне это показалось странным. Он вскоре умер в больнице. А может, ему дали возможность умереть в Шамовской больнице, а не где-нибудь на Колыме или в подвалах нашего Чёрного озера…
– Булат Файзрахманович, откуда у вас появилась увлечённость историей? Почему именно история, а не, скажем, математика стала делом вашей жизни?
– Наверное, потому что очень рано начал читать. Мне было интересно, что происходило раньше, почему случилось именно так, а не наоборот? Никто не даст на это ответа, но, наверное, это одна из задач истории.
Но у меня было много увлечений, например история авиации, и я мечтал стать лётчиком, но подвело зрение.
– Преподавая историю, занимаясь ею как учёный, вы, наверное, не могли не знать подлинности событий. Не могли не знать того, что было на самом деле. В связи с этим не могу не вспомнить вашего коллегу Литвина, который до перестройки писал про подвиги чекистов, а в перестройку – про их зверства над несчастными жертвами.
– Когда я вступил в партию, мне было восемнадцать лет и я действительно верил в то, что тогда писалось официально.
Если же говорить о том, что вы сказали, то почему же только Литвин? У него написан роман, а у меня есть очерки, где тоже фигурируют чекисты. Но я бы не сказал, что мы врали. Мы брали лишь верхний слой деятельности чекистов, потому что многие документы тогда были засекречены. А в 20-е годы ЧК и ГПУ боролись и с настоящими врагами страны.
– Вот вы сказали: «Мы не врали, когда писали про работу чекистов». А вообще-то вам приходилось врать?
– Этот вопрос я часто себе задаю. Если говорить о вранье на бытовом уровне, например, людей убивали, а я говорил, что этого не было, что их ласкали, то такого не было. Но если же говорить о моих оценках того времени, то многие из них не подтвердились. Но всё равно я не могу сказать, что делал это специально. Хотя бы потому, что реабилитацией Султан-Галиева стал заниматься одним из первых, хотя в своих лекциях до перестройки говорил, что он был националистом. Но так я говорил потому, что до перестройки мы были знакомы всего лишь с одним документом – постановлением ЦК о так называемой султангалиевщине.
Но тут есть другое, не менее важное – о людях того времени нужно судить по законам того времени. Сейчас легко и безопасно быть смелым.
– Но если судить так, как вы предлагаете, то и Сталин, и Гитлер ни в чём не виноваты.
– Я бы так не сказал. Речь идёт не о Сталине или Гитлере. Это особый разговор. Речь идёт об элементах структуры. И чекисты, и партийные работники были заложниками идеи, которую внедряли в жизнь после 17-го года. Всё зависело от личных качеств человека. Кто-то особенно усердствовал, кто-то нет, но я не стал бы так огульно всех обвинять. Палач через какое-то время становился жертвой рано или поздно. Это очень тяжёлая страница нашей истории. Она началась с ЧК.
Вот возьмём для примера Льва Толстого. Как политик он был очень наивным. Но всё равно он был Сахаровым того времени. И вот эпизод его спора с социал-демократами. Он пишет: «Ведь вы боретесь за власть, а власть невозможна без дела. А дело невозможно без злоупотребления. Поэтому рано или поздно вы придёте к тому, с чем боретесь сейчас».
– Не хочу делать святым царя или приукрашивать интеллигенцию того времени, но в дореволюционном обществе всё равно были порядочность, культура отношений. Но как могло случиться, что «революционное» быдло сломало хребет нормальному организму?
– А вы можете мне назвать хотя бы одну революцию, которая была бескровной?
– Пожалуйста – Февральская.
– Нет, Февральская революция – это один из этапов Октябрьской революции. Вы можете со мной не соглашаться, но развал государственной власти в России начался до 1917 года. Легко считать, что всё это было сделано за немецкие деньги или японские. Но если бы в обществе не было настроя, что со всем этим нужно кончать, то никакие деньги не помогли бы!
Мне очень нравится рассуждение одного колчаковского офицера, который говорил, что все беды России были от того, что вовремя не повесили троих – Толстого, Блока и Горького.
– При чём тут Блок?
– Вспомните его поэму «Двенадцать».
– После которой приличные люди не подавали ему руки…
– Но он же был символом революции.
Если же говорить о Февральской революции, то не настолько уж она была бескровной. А зверское убийство офицеров в марте в Гельсингфорсе? Это же было до октября.
– Простите, но масштабы-то были не большевистские. Такого террора не было. Газеты не запрещали, рабочих не расстреливали, интеллигенции не затыкали рот.
– Да просто сил не было. Думаю, что если бы правительство Керенского встало на ноги, то меры были бы покруче.
– Да ну! Они даже Ленина не могли поймать, хотя все знали, что он скрывается в Разливе.
– Он не нужен был им. Они считали, что он не так опасен.
А насчёт Ленина я вам скажу вот что. Нельзя выгонять человека с первого курса. Ни к чему хорошему это не приводит. Ленин – сложная фигура. Начинали мы с того, что делали из него ангелоподобное существо в белых одеждах, а потом превратили его в мрачного мизантропа, который только и думал, как бы нагадить родной стране и прогрессивному человечеству. И то, и другое – ложь.
– Мне кажется, что всё-таки именно партия и занималась дебилизацией общества, превращением народа в послушное быдло. Как же можно оправдать то, что миллионы людей вступали в партию при ясном понимании, что всё это нереально, что реальная жизнь так же далека от того, что проповедует партия, как Земля от Солнца?
– А почему вы считаете, что большинство всегда умное? Приведу маленький пример. Вот говорят, что большевики победили в гражданской войне при помощи международного пролетариата, при поддержке среднего крестьянства, при гениальном руководстве Ленина. Я считаю, что большевики победили в гражданской войне только потому, что гениально разыграли национальную карту. Давайте не будем забывать, что Россия была империей. Конечно, это не была тюрьма народов, как писал тот же Ленин. Но для кого-то она была КПЗ, для кого-то – подпиской о невыезде. Россия – очень сложное образование в национальном плане. Ясно лишь одно: национальный гнёт в России был. Ведь только за одно то, что школьники на Украине декламировали Шевченко, учителей выгоняли из школ. Я уж не говорю о мусульманах.
После свержения самодержавия у всех народов было стремление к национальной идентификации, все народы хотели получить равные права, ведь на пятьдесят процентов Россия была неправославной.
Единственная партия, которая сказала: «Берите всё что хотите, верьте своим богам, открывайте свои школы!», была партия большевиков. Поэтому, я думаю, одна из главных причин победы в гражданской войне – блестящий розыгрыш национальной карты, платить по которой большевики не стали.
В начале двадцатого века самодержавие уступало позиции. Россия становилась на европейский путь. Самая страшная ошибка царя в том, что он дал втянуть себя в войну. 1910–1913 годы – это самое счастливое время для России. Ведь что такое большевики до 1917 года? Группа эмигрантов, которые дрались между собой из-за субсидий, писали друг на друга всякие гадости, в ссылке жили довольно комфортно…
– Другие грабили банки…
– Да не только большевики, эсеры тоже грабили. Где-то грабили, где-то облапошивали богатых, таких, как Морозов или Шмидт. Но это была не очень влиятельная группа. Думаю, что и свержение самодержавия было для них неожиданным подарком судьбы, таким же, как и октябрь.
– Вот мы говорили о большинстве. Скажите, вступая в партию, вы хотели вступить в это большинство, почувствовать свою принадлежность системе?
– Я вступал в партию в 1948 году. Для моего поколения Сталин и партия были олицетворением того, что обеспечило победу в Отечественной войне.
Но из партии я не выходил, даже партбилет до сих пор хранится. Это партия вышла из меня.
– А когда начался этот процесс выхода? Не сразу же это случилось?
– После 20-го съезда я начал сомневаться в полной правоте того, что делалось. Это были сомнения, а не отрицание партии. Мы верили, что её можно реформировать, что можно сделать партию с «человеческим лицом».
Потом, я ведь тоже часть большинства. Была очень удобная схема. Ленин – архитектор социализма. Сталин и его прорабы разворовали стройматериалы, где-то что-то не так сделали. В 60-е годы выпускали сборники «Борцы за счастье народное» – про тех, кто был репрессирован, а впоследствии реабилитирован. Писали про них, что они были верными ленинцами, хотя среди них тоже были разные люди. Поэтому-то я и оставался в партии, считал, что её можно перестроить.
– Но прошло пять лет после 20-го съезда, который так обнадёжил вас, десять лет, двадцать лет… И ничего не изменилось. И вы оставались в партии. Чисто психологически было удобно оставаться в большинстве?
– Наверное. Но не только поэтому. Это, если хотите, привычка.
– Но ведь были же и другие примеры.
– Их было мало.
– Вы общались с диссидентами?
– В моём кругу их не было. У генерала Григоренко, ставшего диссидентом, есть очень интересная книга про диссидентов – «В подполье можно встретить только крыс». Диссидентство было очень многослойным. Там были и искренние люди, которые выступали против советской власти, были и фанатики, и шизоиды, а были и осведомители. Любая спецслужба имеет своих людей в организации, которая выступает против существующего строя.
Вот я вам скажу, может быть, очень крамольную мысль. Можете после этого меня зачислить в реакционеры, но я считаю, что у нас был единственный шанс спокойного демонтажа тоталитарного общества – при Андропове. Будучи главой партии, он был бы вынужден пойти по более либеральному пути, и он начал этот путь. Кстати, в народном сознании по отношению к нему нет никакого озлобления. Ведь начали чистку с начальства, а народ у нас это любит.
Я понимаю, что мы ликвидировали коммунизм, но ведь… В партии было девятнадцать миллионов человек, среди которых хватало и карьеристов, и жулья. Но ведь было и другое. Партия пронизывала всё – сверху донизу. Партбилет был как лицензия – потеряв его, человек лишался многого. А партия из десяти жуликов всё же «сдавала» хотя бы одного в назидание.
– Вот что удивило меня из недавнего общения с Фикрятом Табеевым, бывшим первым секретарём. Он сказал потрясшую меня фразу: за своё время правления он не посадил ни одного чиновника. Ни одного! Но ведь это значит одно: было за что сажать.
– Табеев человек хвастливый, да и приврать может. К старости это особенно заметно. Я его хорошо знаю, потому что сам работал в обкоме и участвовал в подборе его на работу завотделом. Кстати, завотделом он был весьма неплохим и демократичным. А вот первым секретарём он работал уже в условиях полной бесконтрольности и безнаказанности. Так и святой может стать супергрешником. А тут амбициозный провинциальный доцент, волею случая вознесённый на вершину…
Кстати, что ни говори, но Сталин был человек начитанный и от своих кадров требовал того же. Время Хрущёва – время верхоглядов. Отсюда и табеевы как явление.
Вот он писал где-то: «Меня взяли в обком потому, что я был очень грамотным и знал пять языков». В основном он знал два языка: один – русский, другой – ненормативный.
По-настоящему крупной фигурой в истории партийной организации Татарии был только Семён Денисович Игнатьев, бывший секретарь ЦК, министр МГБ. Он, кстати, пытался восстановить утраченные позиции татарского языка, за что и был выдворен на пенсию.
Но почему вы меня не спросите о том, почему, когда запретили партию из почти двадцати миллионов её членов – ведь большинство из них были простые люди, – не пришли хотя бы сто из них к райкому партии и не сказали: «Не трогайте. Это построено на наши взносы, на наши деньги». Никто не пришёл ведь!
– Вот поэтому-то мне совершенно не жаль партию. По-моему, это было наполовину собрание дебилов, наполовину – карьеристов, которые гнались за партбилетом, как за лицензией.
– Конечно, партия в какой-то мере становилась своеобразной кастой на высоком управленческом уровне. Но вот что интересно: партию распустили в тот самый момент, когда попытались немножко уменьшить эту кастовость.
– Но ведь вы же сами сказали, что никто не возражал, никто из рабочих не пришёл к райкому…
– Я думаю, что у людей была просто усталость. Все эти очереди, стояние в них, нехватка того, другого…
Мне кажется, что вся наша жизнь в двадцатом веке прошла между двумя фразами. Первую сказал Ленин: «Грабь награбленное!» Представляете, насколько это подходило к нашему менталитету? Эта фраза стала приятной находкой для обывателя.
Вторую гениальную фразу сказал Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
– Что самое печальное было в вашей жизни?
– Я боюсь, что самое печальное меня ещё ждёт впереди… (Смеётся.) Я не могу сказать, что недоволен жизнью. У меня до чёрта недостатков. Но есть вещи, которые я никогда не делал и, наверное, делать не буду.
У меня есть любимая работа, я люблю читать и писать, издал более десяти книг. И вообще мне везло на хороших людей, в том числе и на руководителей.
Но моя жизнь могла сложиться и по-другому, если бы отца репрессировали. Меня бы тогда отправили в детдом. Но этого не случилось. Но всякое могло быть, я ведь родом из «Суконки», где из одного двора выходили и профессора, и бандиты. Вот напротив нашего дома жили двое правильных юношей, братья, один из них стал академиком, это Вячеслав Алемасов.
В четырнадцать лет пришлось идти работать на завод. Закончил вечернюю школу, институт, отслужил в армии, в двадцать один год стал завотделом пропаганды сельского райкома партии и семь лет провёл на партийной работе в обкоме, да и в вузах не раз был парторгом.
– Толстой говорил, что ему будет жаль покидать этот мир, потому что там не будет цыган и музыки. А чего вам будет жаль оставлять на этой земле?
– Я не уверен, что в раю – хотя не уверен и в том, что попаду именно туда, – будет хорошая библиотека.
Знаете, Толстой последние свои десять лет каждое письмо заканчивал аббревиатурой «ЕБЖ», что значит «если буду жив». Вот и я сегодня, если планирую что-то больше, чем на один день, то мысленно говорю: «ЕБЖ».
Дата интервью: 2001-03-02