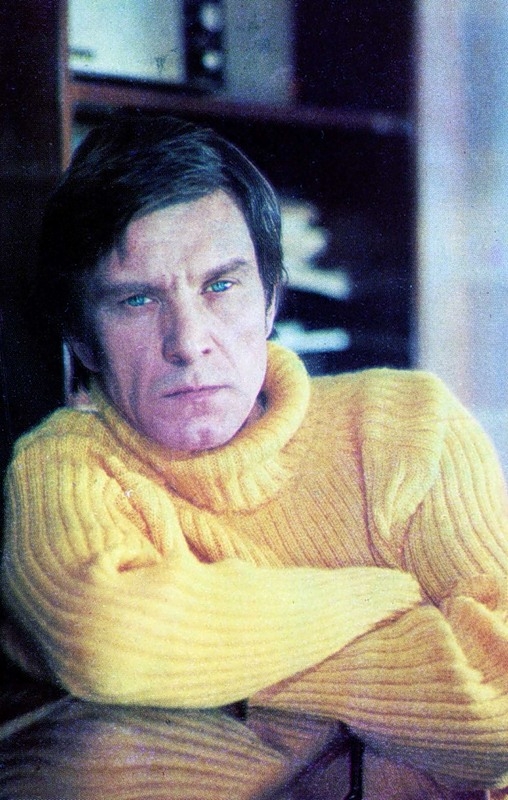Известный артист советского кино считает, что современному обществу не хватает укрощения эгоизма. В интервью он рассказал о своем отношении к капитализму, знакомстве с вдовой героя гражданской войны Сергея Лазо, и о том, как может быть свободен актер.
– Регимантас, со стороны, как говорится, заметнее. Бывая в России, вы обращаете внимание: много ли «совка» осталось в ней спустя двадцать лет после распада СССР?
– Я отношусь к вашим коллегам очень осторожно. Совсем недавно мой друг сказал, что читал в какой-то газете «мои» слова «Я испытываю ностальгию по Советскому союзу». Ваши коллеги очень любят переворачивать все вверх дном, скажешь одно, а они добавят свое.
Вы покажите мне человека в России, не важно какой он будет национальности, который испытывает такую ностальгию. Наверное, такие люди есть, но большинство относится к этому уже по другому. Это такой маленький штрих вначале нашей беседы, но мне кажется, что империя лжи, в которой мы жили, продолжается.
Я не очень понимаю слово «совок». В первый раз слышу его…. Я привел вам факт, выводы, может быть, делать нельзя, но факты говорят, что тяга к искажению правды, жажда преподнести желаемое за действительное продолжаются. Это грустно. Мы разрушили союз, эту империю лжи, и думаю, что люди должны испытывать облегчение и радость, что эта империя рухнула.
В советское время я вырезал заголовки из нашей литовский газеты «Правда», и клеил их в туалете. Интересно было сопоставлять их, было заметно как искажается действительность. Все знали, что происходило на самом деле, но стоило людям собраться, иногда даже двоим, как они начинали говорить фразами из газет, учебников, партийных сборников.
– В Литве сегодня стало свободнее?
– У нас тоже самое. Может быть, вообще абсолютной правды нет, всякая правда субъективна. Все равно никак не могу понять, почему надо выдавать желаемое за действительное.
Вспомнить ту же «мою» фразу о ностальгии… Да, я о многом сожалею. Не было границ, нас не будили в четыре часа утра пограничники и таможенники, не проверяли документы. Но зачем возмущаться по этому поводу? Это реальность.
– В Прибалтике всегда было, мягко говоря, особое отношение к России. Прошло двадцать лет, как не стало Советского союза, эйфория от полученной свободы прошла. Скажите, что же было хорошего в той, ушедшей стране?
– Много было хорошего. Конечно, вспоминаем с чувством горечи и сожаления о нашем кинематографе – эстонском, литовском, латышском. У нас было прекрасное общение. Я сожалею о том, что больше нет союза театральных деятелей, который был во всех республиках, это было прекрасное образование.
Можно сказать и о материальной стороне. В советское время не было таких магазинов, как сейчас, не было изобилия товаров. Но мне кажется, что надо говорить о вещах, которые связаны с жизнью духа, и являются объектом искусства. Это две основные категории – свобода и правда. Вот о чем следовало бы говорить.
Наверное, что-то сегодня лучше, чем было вчера, а что-то хуже. Слава богу, мы не умираем от голода. Конечно, есть люди, которые живут плохо по разным причинам. В сравнении с тем, как советская власть умертвила миллионы людей голодом на Украине, все равно это единицы. Те, кто способен работать, от голода точно не умрут. В этом смысле есть относительное благополучие, и его не надо сравнивать с тем, что было раньше.
Каждый человек стремится к тому, чтобы быть самостоятельным, к этому стремятся и народы. Нам, литовцам, в советское время внушали, что мы счастливые, мы добровольно вошли в состав СССР…
– В каждой советской республике была своя киностудия. Как живет сегодня литовская?
– Ее кто-то купил в девяностые годы. Там была очень хорошая материальная база.
– Американцы снимают фильмы на Рижской киностудии…
– И у нас снимают. К тому же, еще остались специалисты, которые понимают в этом деле. У нас снимают потому что дешевле получается, и за массовку можно заплатить в десять раз меньше,
Но опять-таки все это вызывает сожаление. Людям, у которых есть большие деньги, наплевать на патриотизм. Новым хозяевам киностудии не важно, какую ценность она представляла, какая на ней база, что за павильоны. хоть огурцы выращивай, лишь бы деньги получать. Недавно они свалили, говорят. Но кино тем не менее снимается.
– А сам кинематограф поддерживается правительством?
– Конечно, надо поднимать этот вопрос, и внушать правительству мысль, что все-таки то, что связано с культурой не менее важно, чем материальная выгода. А к культуре относятся так, будто она попрошайка с протянутой рукой: «Ну, дайте немного денег». «А кто вы такие? Вы никому не нужны!».
Какая-то поддержка есть, но копеечная, дотации очень мизерные. Театры в Литве существуют, но актерам очень мало платят. Но я не склонен говорить о материальном недостатке. Материальное это материальное. Меня интересует другое.
Наверное, ничего нового не скажу, но капитализм не самое лучшее, что придумало человечество. Мы сегодня опираемся на основной инстинкт живого существа – «мне!», «я!», «давай!». Каждый ищет выгоду, а искусство где-то в стороне. Не думаю, что оно может изменить мир, сделать его лучше, но тем не менее, искусство способствует тому, чтобы в человеке преобладала иная сторона его природы, и чтобы он не был эгоистом. Искусство существует для того, чтобы показать, что люди существуют не для удовлетворения своего инстинкта собственника, не обладание делает человека счастливым, а как раз способность отдавать.
– Русский артист на вашем месте сказал бы сейчас про божественное начало в человека. Вы избегаете этой громкой фразы. Почему?
– Конечно, божественное в человеке есть, но я избегаю таких пышных фраз. Мне кажется, надо говорить проще, например, об укрощении своего эгоизма.
Когда мы стали независимым государством, то у нас в Литве дали возможность вернуть собственность бывшим хозяевам. И все начали хватать, хватать, хватать. Это все так дико происходило. Спорили, кричали, даже кого-то поубивали некоторые родственники. И все из-за какого-то клочка земли. Вот что бывает, когда в обществе дали возможность размножаться вирусу собственичества. В России, я слышал, было тоже самое.
– В советское время вы выезжали за границу?
– Мне повезло, довольно часто ездил с фильмами. Тогда съездить заграницу было пределом мечтаний. Даже в соцстраны. Если ты поехал в капиталистическую страну, то считалось, что сказочно повезло.
– Интересовались как живут их театры?
– Тогда мы этим вопросом не задавались. Мы были оглушены изобилием магазинов. Масла было в них столько, сколько сейчас. Глаза просто разбегались. Эта разница заглушала другие наши интересы.
Мне приходилось сниматься в Армении, где магазины были совсем пустые, продавались только минеральная вода, кока-кола и соль. В горбачевские времена на Новом Арбате зашли в центральный гастроном, а там пустые прилавки.
На западе старались что-то посмотреть в театрах, но чаще был там не туристом, а на совместных съемках, был очень ограничен во времени. Все были заняты своим делом, смотрели только на изобилие. Хотя видел, что там свои проблемы. Они сейчас пришли к нам. Теперь понимаешь, что рая на земле нет, он может быть только тогда, когда человек внутренне свободен.
Поэтому для меня слово «свобода» не пустое, и очень много вмещающее в себя. Должна быть борьба с эгоистическим началом в себе. В начале пути, когда занимаешься театром, не совсем это понимаешь, и занят только самореализацией. Сыграть так, чтобы пригласили другие режиссеры. Когда стареешь, начинаешь многое пересматривать, переоценивать, и чем больше живешь, тем больше отдаляешься от своего эго.
– Интересно получается, о свободе и правде говорите вы, актер. Именно актеры несвободны, подчиняясь режиссеру, и, если быть откровенным, не совсем правдивы, лицедействуя.
– Я понимаю, это странно выглядит, и, может быть, кощунственно, но, знаете, актерская свобода немного в другом. Конечно, актер несвободен, не он пишет пьесы. Конечно, он подчиняется режиссеру, и еще много чему. Его свобода ограничена.
– Все-таки она есть?
– Трудно объяснить это двумя словами, но попробую. Когда-то я записал в своем дневнике, что актерская свобода – это способность импровизировать в заданном материале. Авторский текст, грим, необходимость переодеваться в чужой костюм – вот против чего начинаешь восставать со временем.
– Значит, вы не всегда были послушным в отношении к режиссерам?
– Я всегда был тяжелым актером, и имел свое представление о роли. Но все равно не хочу быть режиссером, и не мечтал об этом. Это совершенно другая профессия. Она требует от человека навязывать другим свое видение, подчинения.
– Один ваш коллега сказал, что актеры как женщины.
– Это очень правильная оценка. У актеров женское начало, а у режиссеров – мужское. Но откуда у актеров это желание превратиться в кого-то? Тут надо идти в сферу психологии или психоанализа, искать корни в комплексах. Вроде бы все элементарно – в жизни ты никогда не будешь королем, а на сцене можешь.
Правда, свободным актер может быть, как и в жизни. Обычный человек ограничен многими факторами, и должен искать свое счастье и свою свободу. Так и актер, подчиняясь пьесе, режиссеру, загнанный в пространство сцены может найти удивительные моменты свободы и счастья.
– В России театр принято считать некой кафедрой. Как относятся к театру в Литве?
– Я раньше тоже так думал. Наши режиссеры учились в Москве и Ленинграде, и хорошо усвоили мхатовскую школу психологического реализма.
В свое время у нас играл Михаил Чехов. Когда он разошелся со Станиславским, уехал на Запад, и некоторое время жил в Каунасе. Играл Хлестакова и Гамлета, актеры говорили на литовском, а он на русском. Своим приходом он привнес в литовскую театральную среду какое-то веяние русской школы.
Со Станиславским он разошелся в принципах подхода актера к своей роли. Станиславский требовал от актеров вживаться в роль: «я в данных обстоятельствах». Михаил Чехов говорил, что важнее «рассказать о своем персонаже». По-моему, это гораздо правильный подход, потому что от системы Станиславского попахивает диктатурой.
Я помню, как в студенческие годы мы делали этюд: изображали комсомольцев, шагали строем на сцене, как будто едем то ли на БАМ, то ли еще куда-то. Потом я подошел к преподавателю, и сказал, что не чувствую себя комсомольцем, никак не могу в это поверить. На это мне ответили, что я не смогу быть актером.
Я старался быть актером, и долгое время был плохим актером. Не мог научиться переживать. Когда мне в руки попалась система Чехова, очень обрадовался. Он не насилует, а предлагает ход в обход.
– Это система, а сам театр играет какую-то роль?
– В советское время актеры не только воспитывались на системе Станиславского и его сверхзадаче. Несмотря на то, что весь строй был построен на лжи, государство требовало от нас быть гражданами, выражать свою гражданскую позицию через свои персонажи. Мы старались, мы верили, и ставили такие спектакли.
Потом оказалось, что нет ничего в мире постоянного, мы меняемся, и сейчас я начал пересматривать свои прежние убеждения. Особенно в части того, что театр, само искусство играют огромную роль в жизни общества. Так мы думали раньше. Мы были уверены, что делаем что-то сверхзначительное, и наша работа важна для общества. Дескать, мы воспитываем и просвещаем.
Сегодня не хочу отбрасывать просветительскую роль театра, но хватит врать. Ничего важного мы не делаем. Мы просто пошли этой дорогой, и просто занимаемся театром. Большое заблуждение думать, что мы делаем что-то очень значительное.
– В прежнее время была сознательная ложь?
– Конечно, где-то была и сознательная. Сегодня я не преувеличиваю роли театра, и вообще искусства в жизни общества. Я говорю только про себя, про свои убеждения, но театр идет в том же направлении, что и я.
До недавнего времени было очень важно что ты говоришь со сцены, какая у тебя сверхзадача. Для меня важно, что я так воспитан. Но вот посмотрите в окно гостиницы, видите, вон там рабочие роют яму, что-то ремонтируют? Я ничем не отличаюсь от них. Они на экскаваторе роют землю, делают свое дело, а я делаю свое. И ладно. Делайте то, что вам нравится. Зачем быть такими важными и пышными?
– Звездами?
– Ой, сейчас столько звездочек появилось. Иногда посмотришь молодых певичек по телевизору…, Голоса нет, есть только накрашенные волосы, голые ноги и микрофон во рту. И она уже звезда. Эх, как просто стать звездой.
– В России очень большой конкурс на актерские факультеты в вузах. В Литве профессия актера также престижна?
– Вы меня об этом не спрашивайте, я никогда не был преподавателем. Совершенно не знаю ситуации в театральном вузе, но, думаю, что интерес к нашей профессии уменьшился. В России все-таки есть традиционная любовь к театру, даже какой-то культ сцены. С одной стороны, это обожание театра прекрасно. У нас сегодня более прагматичное отношение к театру, и, думаю, желающих попасть в него уменьшилось.
В Литве есть государственная академия художеств и театра, раньше был факультет сценического мастерства при консерватории, который я заканчивал.
– Почему вы не преподаете? Неинтересно?
– Есть люди, которые имеют педагогический талант, и они хотят его реализовать. У меня была задача: стать актером. Когда был молодым, сказал себе: «Десять лет простою с алебардой, и буду целенаправленно стремиться стать настоящим актером». Все случилось раньше, попал в кино, снялся в фильме «Никто не хотел умирать». После него меня стали приглашать сниматься. Одновременно начал расти и в театре. Я был большим эгоистом, занимался только собой: как сыграть так чтобы мне давали еще больше ролей. Я не скрываю, что эгоист и очень самовлюбленный.
– Может, индивидуалист?
– Можно и так сказать. Все равно, ни черта не понимаю что стал бы преподавать молодым людям, которые хотят попасть в театр. Я сам в этом ничего не понимаю.
– А раньше, когда снимались, понимали?
– Стал понимать немного только со временем. В преподаватели все равно не гожусь, потому что мне нечего передавать. Когда уже стал что-то делать, и понимать что могу, начал сомневаться в том, что могу.
Как-то сделал себе заметку в записной книжке: «Сегодня во время спектакля попробовал такой-то ход. Сработало». Значит, надо делать и дальше так? А пробуешь в следующий раз, и – не сработало.
Когда-то я отмечал что-то, а потом начал сомневаться в принципе своего подхода к театру. А если меня одолели сомнения, значит, я не могу быть уверен в том, что мой путь правильный. Меня много раз приглашали преподавать, но я не согласился.
– Ваш отец родился еще в царское время, и успел пожить в независимой Литве. Он рассказывал вам что-нибудь о том времени?
– Нет. Послевоенное время было полно страха. Мы с братом никогда и не спрашивали отца об этом, просто учились в школе. Интерес появился потом.
Мы знали только одно, что живем в самом лучшем из миров.
– А страх был отчего?
– Он был постоянный. Как облако, которое затянуло все небо. Он висел над всеми.
– Кем был ваш отец?
– Инженером. Простым инженером. Тем не менее, мы сидели на мешках с сухарями. То одного соседа забрали в НКВД, то другого. Может, и за нами приедет грузовик, и дадут два часа на сборы? Если кто-то сказал плохое слово про Сталина, то можно было быть уверенным на сто процентов, что его посадят.
– Кто же стучал?
– Свои, литовцы. Такие люди всегда есть, в любой стране, в любом народе, в любые времена.
– Спустя время вы стали членом парламента СССР….
– Я никогда им не был. Был народным депутатом на Съезде при Горбачеве. В партии никогда не состоял, и удивляюсь, почему меня никто не приглашал в нее. У меня есть убеждение, что люди, занимающиеся творчеством, не должны состоять ни в каких партиях. Многие, конечно, вступали в КПСС, но, видимо, я был нежеланным. Наверное, сказалось мое стремление к правде, очень сильно чувствовал ложь. Поэтому и на сцене стремился к правдивости, хотя это была условная правдивость.
– Хорошо помню, как делегация Литвы на одном из Съездов покинула заседание в знак протеста после того, как Горбачев и другие депутаты отказались обсуждать пакт Молотова-Рибентропа. Откуда вам был знаком этот документ, если он не публиковался?
– О нем многие знали. Те, кто хотел найти его, находили. Существовал и самиздат. Поэтому, когда Съезд отказал нашей делегации в обсуждении его, мы встали и ушли.
Но еще раз скажу, что никогда не был во власти и в партии. В народные депутаты меня выдвинул наш Народный фонт «Саюдис», а когда, спустя время, выдвигали кандидатов в литовский парламент, попросил, чтобы мою фамилию вычеркнули. Я не политик, и не хочу корчить его из себя. Для меня политика чужда, как и власть. Поэтому я актер, а не режиссер.
– Народный фронт Литвы начинался как интернациональное движение. Почему национальный вопрос стал таким острым именно в Прибалтике?
– В Литве он был в меньшей степени. Объясняется все очень просто. В Эстонии и Латвии русскоязычного населения было около половины, а в Литве всего двадцать процентов, включая поляков, русских, евреев.
Помню, мы с Колей Караченцевым снимались в Таллинне в фильме «Трест, который лопнул», и сталкивались с такими вещами, что нам не отвечали по-русски на улице. В Вильнюсе вы можете спросить любого прохожего хоть по-русски, хоть по-польски и никто не будет делать вид, что не знает русского языка.
– Перед встречей с вами, пересмотрел несколько фильмов с вашим участием. В том числе, и один из первых – «Сергей Лазо»…
– Ой, как давно это было… Какой же это год?
– 1967.
– Почти пятьдесят лет назад.
– Вашему герою – молодому большевику, было всего 26. Вы тогда задумывались: что это был за революционер?
– Перед съемками прочитал его дневники, и очень увлекся ими. Лазо был образованный человек с университетским образованием и не из бедных, знал несколько языков. Мне очень хотелось понять: почему он перешел на сторону большевиков?
Я узнал, что жива его жена. Нашел ее адрес – она жила в каком-то пансионате для старых революционеров под Москвой. Решил познакомиться с ней, разузнать как можно больше о Лазо. Когда встретился с ней, попросил рассказать о нем, и когда она начала говорить, никак не мог понять: где это слышал? И потом понял. Она говорила фразами, без ошибок из книги о Лазо, написанной явно не самой, а кем-то другим. Она озвучила мне книгу.
Потом когда начались съемки, думал о той ситуации, в которой оказался мой герой на Дальнем Востоке. Тут японцы, там французы, где-то белые. Такая мешанина. В ней он встречается с молодой женщиной, пожил с ней два дня, и дальше пошел бороться. А у нее потом родилась дочь.
В фильме получилось все красиво. Мы сознательно создавали миф о нем. Для меня лично до сих пор остается загадкой: почему офицер царской армии перешел на сторону большевиков? Что повлияло на его решение?
– В одной из последних сцен фильма, на допросе вместе с японским генералом Лазо допрашивает белый офицер. Никак не мог вспомнить фамилию актера, хотя лицо очень знакомое…
– Это Андрей Тарковский.
– ?!
– Фильм снимал муж его сестры. Он и пригласил Андрей. Тарковский предложил снять интересный финал. Меня привязали к коню, возили по грязи, поливали водой из шланга, изображая дождь, а я лежал с раскинутыми руками. Получилось очень красиво – символ распятия. Мы сняли этот финал, но цензура его вырезала.
– Вы снимались в фильме «Из жизни отдыхающих». Как вам работалось с режиссером Николаем Губенко?
– Он прислал мне сценарий, и я ответил ему длинным письмом. Согласился, но были и сомнения. Тогда я еще не понимал кинематограф, и подходил к сценарию рационально.
Кино всегда вызывало у меня чувство смятения. Мне очень часто говорили: «Как вы хорошо сыграли в таком-то фильме». Часто я отмалчивался, знал, что фильм снял режиссер, а не я. Это он предлагал мне сыграть так-то и так, это он подсказывал что мне делать. В театре можно быть более или менее свободным, в кино не чувствовал никогда целого. Только режиссер знал, как будет выглядеть каждый эпизод и фильм целиком, и он двигает артистов как марионеток.
– Вам посчастливилось работать с классиком советского кино Григорием Козинцевым.
– Мне действительно повезло. Это говорит о том, насколько важен случай в актерской профессии. Мне повезло, что встретился с Жалакявичюсом, и если что-то я и сделал в фильме «Никто не хотел умирать», то это сделал в первую очередь он.
Козинцев прекрасно работал с актерами.
– Он их любил?
– Думаю, что да. Он уважал актера, как равноправного члена группы, способного сделать что-то самостоятельно. Он был не из тех режиссеров, которые муштруют актеров, применяя кнут. В какой-то мере таким был и Жалакявичус .
Мы довольно много рассуждали про мой персонаж, и Григорий Михайлович подбросил мне идею, с которой мне было легко работать. Идея очень простая. Многие считают, что Эдмонд в «Короле Лире» – это маленький Яго из плеяды негодяев. Козинцев рассуждал: «Почему все так думают? Это не так. Он как раз человек Ренессанса. Он живет в загнивающем государстве, погрязшем в коррупции. Даже король не может разобраться кому отдавать части королевства, и кто из дочерей говорит ему правду». Помните, как он возмущается, когда младшая дочь говорит: «Я люблю вас ровно столько сколько мне велит долг». «Как ты смела сказать такое?» – кричит он на нее. Это ведь так было похоже на то общество, в котором мы жили, и где разучились отличать искренность от умения лизать задницу начальнику.
По мнению Козинцева, мой герой никакой не негодяй, он представитель нового приходящего сословия. Он передовой человек, понимает, что государство живет во лжи, ему необходимо взойти на Олимп в нем, и взбирается на него используя средства недопустимые с моральной точки зрения. Так он становится негодяем.
Козинцев дал мне такую идею, и я получил полную свободу на съемках. Мне это очень нравилось. Не всегда бывает, чтобы режиссер настолько доверял актеру. Чаще всего бывает хуже.
– У вас уже пенсионный возраст, но все равно трудно представить, что вы целыми днями сидите на даче, читая журналы или смотря телевизор. Или ошибаюсь?
– Не сказал бы, что люблю сидеть на даче… Недавно мне сделали операцию на один глаз, и поэтому почти не вижу им, не могу читать, а очки для чтения никак не могу приобрести. Люблю кроссворды в туалете решать. Мне нравится ничего не делать. Я очень большой лентяй.
– А как ощущается возраст?
– Очень резко начал чувствовать, что уходит энергетика. Уже не смогу сыграть тех ролей, которые требуют много энергии. Играю в «Чайке» Тригорина, но ему, как пишет чехов, 55 лет, а мне почти 75. Приходится немного молодиться.(улыбается).
Знаете, все-таки возраст ощущается больше не физически, а в другом. Я совсем перестал ходить в театр, интересоваться новыми постановками. Я еще играю в спектаклях, в двух театрах у меня есть эпизодические роли, но интерес к театру погас. Сравниваю с тем временем, когда ради театра бросил физико-математический факультет, и пошел в артисты. Раньше для меня театр был всей жизнью. Конечно, была и другая жизнь – влюбился, женился, родились дети, но все равно стремление к театру было больше. Я много работал в нем, потом еще кино присоединилось. Времени на семью почти не было, отпусков тоже. Еле успевал чередовать спектакли и съемки, но все равно оставался театральным актером, и до сих пор считаю, что театр для актера настоящий дом. Кино – это мозаика эпизодов, которые составляет режиссер. Всегда понимал это, и не бросал театр.
Но вот интерес к нему угас. Сейчас очень хорошо понимаю Тригорина, который говорит: «Какое счастье сидеть в лодке с удочкой в руке, и не писать».
Дата интервью: 2011-04-12