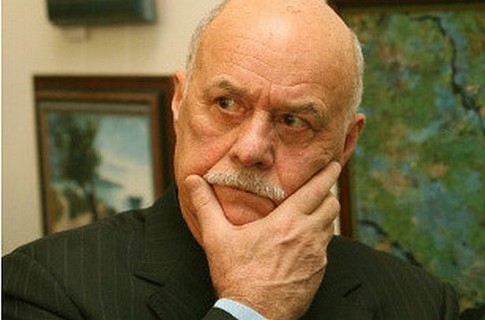Ведущий артист Молодежного театра на Фонтанке признается, что в обычной жизни он консервативен, а на сцене любит риск. В интервью он рассказал о том, легко ли играется на сценах других театров, отсутствии актерского профсоюза, и как привыкал к съемкам в кино.
– Валерий, правда, что вы самый востребованный актер в Питере?
– Неужели? Не знал, что самый-самый…Наверное, такое мнение появилось, потому, что я одним из первых, кто стал играть по договору в разных театрах, раньше это было не принято. Многие говорили: «Что это он разменивается? Бегает из театра в театр…». В том числе говорил это и Александр Белинский, не видя моих спектаклей. Но потом он посмотрел моего «Иова», и сказал: «Валерий, я прошу у вас прощения».
Бег бегу – рознь. Если, например, ты хочешь что-то сыграть в родном театре, но такой возможности нет, то глупо отказываться от предложения из другого театра. Если это, конечно, не во вред своему театру.
– А эти желания как-то связаны с материальным вопросом?
– Никогда не работал в антрепризах, богатых постановках, меня приглашают в обычные театры. Там получал полторы-две тысячи максимум за спектакль. Это не те деньги, за которыми надо гоняться. Для меня это просто интересная работа.
– Семен Спивак говорил мне, что в Молодежном театре зарплата народного артиста России тринадцать тысяч…
– Это правда. Может, у меня такой характер, может, я серьезный артист, но не позволяю себе делать халтуру. Если мне интересно, пытаюсь делать работу серьезно, и может, поэтому мой бег по театрам приносит мне определенную пользу.
Деньги, конечно, нужны, чего тут лицемерить? Мне сейчас пятьдесят два года, и я понял, что деньги в жизни не главное, все равно всех денег не заработаешь. Мне нравится жить так, как живу, делать что-то интересное, и не ломать себя в каких-то принципиальных вещах, особенно в творчестве.
– Но вот у ваших бывших питерских коллег в московских театрах колоссальные гонорары в кино.
– Для себя когда-то уже решил: есть разные орбиты, кто-то выходит на более мощную орбиту, и там существует, у кого-то орбита в пределах своего города или области. Это можно назвать судьбой. Конечно, наверное, хорошо быть в мощной орбите, но раз не сложилось, то буду заниматься тем, чем занимаюсь, на своей орбите.
– Как вам играется на сценах других театров?
– Мне это интересно. В жизни я консерватор, и всегда езжу на машине одной и той же дорогой, хотя жена говорит, что можно срезать угол, объехать, но все равно поеду так, как привык.
В творчестве я совсем другой – люблю рисковать, меня это возбуждает. Поэтому принимал участие в чем-то неизвестном, но это был поиск чего-то нового. Всегда буду рисковать, если мне интересно.
– А какая градация этого риска?
– В основном играю в реалистическом театре, и если есть что-то новое по форме, есть тема, то интересно попробовать.
Снимаюсь в сериалах, и там есть формат – формат сериала, за который нельзя выходить. Вот, например, «Мангуст». Мой герой организовал частное сыскное бюро, и в одной из серий в него обращается странная дама, которая уверяет, что ее преследует маньяк. Сотрудники агентства разбираются, и выясняется, что она придумала историю с маньяком для того, чтобы на нее обратили внимание. Вот вам тема – женское одиночество. Как ни странно, но в этой серии, и даже в формате сериала она прозвучала по-другому.
– Это кино, а в театре?
– Есть темы настоящие, человеческие, которые всегда стоит выносить зрителю. Они вечные.
– Вы из первого состава Молодежного театра, пришли в него одним из первых..
– Я пришел, когда театра как такового еще не было. У Малыщицкого был тогда самодеятельный театр при институте железнодорожного транспорта, очень известный был в Ленинграде театр, в нем играли замечательные спектакли – «Не стреляйте в белых лебедей», «Сотников»… Потом Малыщицкому предложили возглавить профессиональный театр, решили, что он сможет возглавить театр. Я еще помню, как ходил на репетицию в общежитие института. В 1980 году нам дали здание на Фонтанке, в нем был летний каток.
Вы даже представить не можете, что здесь было раньше! Там где сейчас цеха, был балкончик, все стенки были в кафеле. Перед премьерой «Сотникова» мы отбивали их, потому что обшарпанные стены очень «шли» этому спектаклю. Зрители на спектаклях сидели вокруг сцены, или с двух сторон, или с трех – всегда по-разному. Малыщицкий сделал так, чтобы зал мог трансформироваться.
– Правда, что с ним в театр пришли и непрофессиональные артисты?
– Не могу сказать, что все, но человек шесть были. Они поработали несколько лет и ушли.
Вообще, это было чудное время!
– В чем, по-вашему, была удача Малыщицкого?
– После спектаклей мы оставались и слушали песни Высоцкого. Свободы такой, как сейчас не было, и что-то в спектаклях подавалось в завуалированной форме. К нам в театр приходили замечательные писатели – Лотман, Яков Гордин, Фазиль Искандер. Они смотрели наши спектакли, потом мы общались с ними. На Таганке все это началось раньше. Малыщицкий учился у Любимова. Его первые спектакли и по эстетике, и по направленности были сделаны под влиянием Любимова.
У него был поэтический театр, он очень хорошо знал поэзию. У нас был спектакль «Цена тишины» из стихов поэтов, погибших на войне. Может быть, грубо скажу, но спектакли оставляли какой-то ожог, в хорошем смысле, эмоциональный. Я думаю, что в памяти зрителей его спектакли сохранились, сейчас такие чувства в театре испытаешь не часто.
Он поставил «И дольше века длится день» Айтматова. До сих пор помню сцену смерти Сталина: ребята шли из мавзолея, чеканя шаг. Там была еще тема космоса, и она «шла» через висящие в зале телевизоры. На репетиции человек из обкома партии сказал: «Почему тут телевизоры? У автора фантастика, а у вас получается наше время». Из-за этой сцены хотели запретить спектакль, были дебаты, и пришлось пойти на какие-то уступки.
– А фига в кармане была в его спектаклях?
– Нет, он был предельно искренний человек, и ставил по принципу «не могу молчать». На репетициях он завораживал всех нас, это о многом говорит. Вы не представляете – мы, актеры, приходили в театр встречать новый год! Вроде домашний, семейный праздник, а мы шли в театр. Нас никто не звал, нам самим хотелось.
– Вы были свидетелем печального ухода Малыщицкого из театра. Почему это случилось? Как вы думаете, почему у нас так и не научились ценить талант?
– В своем отечестве пророка нет. Почему мы не ценим таланты при жизни, почему начинаем ценить только, когда человек умирает? Я пытаюсь и при жизни, по мере возможностей ценить таких людей, и не жадничать в оценках.
У меня есть друг Сергей Бриль, мы с ним играем много спектаклей. Мало того, что он замечательный актер, он еще ведет детскую студию, и сделал там потрясающие спектакли. У него есть спектакль, когда на сцене шестьдесят малышей разного возраста, они показывают этюды, свою жизнь. У него есть дар педагога, и, мне кажется, в наше время – это редкость. Если бы вы видели, как он рассказывает про своих учеников, как счастлив в это время! Эта студия не приносит ему много денег, но занимает много времени и нервов. Я ему всегда говорю: «Серега, я преклоняюсь перед тобой. Я тебе при жизни говорю: «Ты гений!».
– Когда у вас появилась страсть к театру?
– Я пришел в театральный институт сразу после школы. У меня была простая семья: мама работала в прачечной, папа был электромонтером, ходил с лестницей на плече, и я к театру никакой особой тяги не имел.
В школе у нас была учительница по биологии, она вела замечательный драмкружок, где мы чего-то делали на тему нашей жизни в школе. Как-то я заметил: мне аплодируют, значит, у меня что-то получается.
Потом ходил в студию при ДК имени Ленсовета, ею руководил бывший актер ТЮЗа Каганов. На сцене ДК мы также играли какие-то детские спектакли. В классе десятом стал понимать, что мне это нравится, и решил поступать в театральный институт.
Бог сделал так, что я поступил. Но если мои друзья по институту, встречаясь, вспоминают студенческие годы как чудесные годы, то для меня они были мукой. До третьего курса я был очень зажат, никак не мог раскрыться, наверное, от некоей робости. Меня даже чуть не выгнали за профнепригодность, скованность преследовала меня, пока однажды не случилось нечто.
Мы репетировали отрывок из повести Тургенева, мне досталась роль барина, который женился на цыганке. Ей было сначала с ним хорошо, потом стало скучно, взыграла цыганская кровь. «Ты меня не любишь», – говорила она ему,барин в панике. Репетируем, репетируем, и – ничего не получается. Мне уже казалось, что меня сейчас выгонят, и – разревелся.
Ушел в угол сцены, весь в слезах от беспомощности. И тут наш педагог Кацман – вот она великая мудрость учителя! – сказал мне: «Валера, быстро на сцену! Играй!». Он увидел мое состояние отчаяния, оно было похоже на состояние моего героя. Я стал играть, весь в соплях и слезах, и вдруг ощутил кайф. Реву, и впервые мне не стыдно, и даже было как-то сладко одновременно, я понял, что у меня что-то открылось. Это не значит, что после этого случая у меня все стало получаться, но после все стало по-другому.
– После окончания института, наверное, как все тогдашние выпускники хотели пойти в БДТ?
– Я был студентом-неумехой, меня никто никуда не звал, и я думал, что меня никто и не возьмет, кому нужен такой испуганный мальчик, который постоянно робеет? Я показывался в театры, и так случилось, что пришел в Молодежный.
– Из актеров на сцене можно лепить все что угодно. Актеры и в жизни такие же, способны поддаваться внешнему влиянию?
– Знаете, я уже думал об этом, и скажу так: я хочу быть камнем, но в руках у Микеланджело.
– Но это на сцене, а в жизни вы какой?
– А кого интересует моя жизнь? В жизни мы те, кто мы есть. Или стараемся ими быть.
– Вас интересует жизнь вне театра?
– Есть общественная жизнь, она связана с работой в СТД. Политика мне неинтересна.
– Есть ли сегодня актерское братство?
– Наверное, есть. Многие актеры ходят в театры, смотрят работы своих коллег. Мне кажется, важно, чтобы актеры умели ценить в человеке его одаренность, не важно, у кого ее больше, у кого меньше. Одаренность всегда вызывает восхищение.
– А братство, как цеховое понятие, есть?
– В Питере такого нет. Я знаю, что в Америке есть профсоюзы, и если права актеров ущемляются, то они защищают их. Если актеры снимаются в кино, то профсоюзы добиваются, чтобы ставки были достойными.
– Обычно в театре всё про всех знают. Вам важно, чтобы ваш партнер на сцене был порядочным человеком?
– Конечно, важно. Так сложилось, что людей, которых я презирал бы, в моем окружении нет. Нельзя быть подлецом в жизни, и святым на сцене, подлость все равно просвечивает.
– То есть вам важна влюбленность на сцене?
– Мне приятно слышать, когда мои партнеры-женщины говорят, что никто не может играть любовь с ними, как я. Это комплимент.
Самое страшное для актеров на сцене – мертвый партнер, если он не реагирует на тебя, и просто говорит текст, ни о чем не думая.
– Бывает и такое?
– Редко, но бывает.
– Вы очень театральный актер. Тяжело было привыкнуть к съемкам в кино?
– Мне это было несложно, хотя раньше я себя на экране не любил.
– Привыкли?
– Сейчас я обожаю себя на экране. Мне это нравится. В кино надо просто существовать и работать на органике. У меня это, кажется, получается.
– Вы уже давно занимаетесь дублированием, и озвучивали Брюса Уиллиса, Ричарда Гира… Не было волнения?
– Нет, когда озвучиваешь таких гениальных артистов, хочется, чтобы было не хуже, и сделать лучше, и приходится сдерживаться.
Я стал дублировать, когда уже работал в театре. Могу сказать, что это тоже актерский дар. Жизнь случайно свела меня с этим, и у меня как-то сразу получилось. Я знаю замечательных актеров, которые не могут дублировать, им это просто не дано. В дубляже есть много тонкостей, и очень важно, чтобы голос не «отлипал» от лица.
– У вас есть какая-то своя специфика в этой работе?
– Своей нет, в ней есть свои тонкости. Когда Алексей Балабанов снял фильм «Замок», то пригласил меня переозвучить актера, который играл землемера. Какая для меня это была школа! В фильме есть эпизод, когда героя принимают за другого человека, и устраивают ему экзамен, показывают ему предмет: что это? Он говорит: «Колечко». Над этой фразой мы бились несколько часов, пробовали в разных вариациях, интонациях, и я понял, как это важно в этой работе.
А как занимается озвучанием своих фильмов Герман! Насколько серьезный и сложный у него процесс.
Сейчас есть техника, позволяющая актеру дублировать без партнеров. А я помню время, когда надо было выучивать весь текст, и говорить приходилось без бумажек, наизусть, без суфлеров. И если сцена в фильме снята крупным планом, то и дыхание должно совпадать.
– Претензий не было?
– Нет. Мне эта работа безумно нравится.
– Что проще дублировать – кино или мультфильмы?
– Для меня разницы нет, в кино надо больше попадать «в губы», чтобы было смыкание, у меня с этим уже давно нет проблем. Мне не важно, что озвучивать, главное, чтобы произведение было талантливое. Один из моих любимых мультиков – «Мулан», в нем я озвучивал Мерфи, вернее дракончика, эдакого мелкого пакостника. Очень талантливый мультфильм. Правда, Мерфи получил за него во-от столько, а я всего лишь столько (показывает разницу пальцами. – А.М.).
– Вашей первой женой была популярная в восьмидесятые годы актриса Александра Яковлева. Она стала сниматься в кино раньше вас, довольно быстро стала звездой. Почему она не помогла вам?
– Мы учились на одном курсе, и поженились самые первые. Потом Сашу пригласили сниматься в «Экипаж». Из института она ушла, не закончив его, она очень талантливый человек, и ей это было не нужно. Она много и хорошо снималась, стала звездой, но, к сожалению, наша супружеская жизнь дала трещину.
Я человек гордый, никогда ничего не люблю просить, привык всего добиваться сам, и просить, чтобы она помогла мне получить роли в кино не хотелось. Это, во-первых, а во-вторых, когда она снималась, я сидел с ребенком. Снималась она в Москве, а наша дочь Лизанька была на моих плечах.
Мы прожили вместе семь лет, и для меня это была мощная школа жизни.
Я был одним ребенком в семье, и многого не знал, даже что такое платить за квартиру, все делали родители, и жил я, как сыр в массе. Вдруг –бах! – женитьба! Бах! И вот дочка в котомке, и с ней идешь в институт. Мне очень хотелось, чтобы Саша помогала мне, но….
– После «Экипажа» она осталась в Москве?
– Нет, она жила в Ленинграде, много снималась, часто уезжала. Мало того, что мы оба актеры, так мы еще два Петуха по гороскопу, и – одно к другому, оба молодые…
Сейчас она закончила актерскую карьеру, и тому есть причины.
– С кем их режиссеров, кроме Семена Спивака вам интересно работать?
– Судьба меня сводила с очень талантливыми режиссерами, и нет ни одного с которым мне было бы неинтересно. Я работал со Смирновым, чудным Тумановым, замечательным Валерой Гришко, мы с ним познакомились, когда я еще поступал в институт, а он учился у Товстоногова.
– А у кого хотелось бы поработать?
– Я безумно люблю Снежкина, и периодически снимаюсь у него, он мне дает маленькие роли. Я не знаю в чем тут причина, но я его очень люблю. Его все боятся на съемочной площадке. У него есть своя позиция, он знает чего хочет и добивается этого. Характер у него, правда, непростой, но внутри он очень нежный и легкоранимый.
Снимался у него в «Белой гвардии», и одна молодая актриса сказала мне: «Я каменею, когда он кричит». «Не волнуйся, – успокоил ее, – он очень добрый, все это прикрышка, чтобы собрать коллектив для работы. Если ты окаменеешь, то смотри на меня, а я буду тебе подмигивать».
– В фильме Панфилова «Венценосная семья» вы сыграли Троцкого, буквально несколько секунд. Его, кажется, до вас его никто не играл?
– Там крошечный эпизод: в то время, как кто-то выступает на сцене, мы с Лениным, и еще с кем-то шепчемся за кулисами и решаем вопрос о расстреле царя. Панфилов сказал нам: «Надо сыграть змей, которые шипят». Я даже не думал о том, какой был Троцкий. Спивак учит: надо играть ситуацию. То есть надо определить события. Задача была четко поставлена и все получилось. Всего-то было несколько секунд, какой там характер!
Дата интервью: 2012-03-29